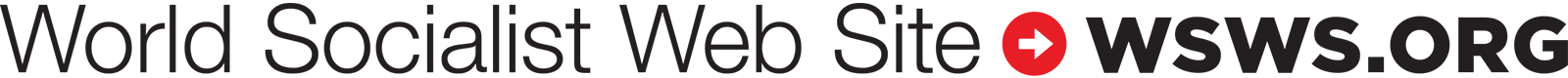Международный Комитет Четвертого Интернационала провел митинги в память о Вадиме З. Роговине, выдающемся русском марксистском историке и социологе, которые состоялись в Берлине 5 декабря и в Лондоне 12 декабря 1998 года. В. Роговин, ушедший из жизни 18 сентября 1998 г. в Москве в возрасте 61 года, опубликовал шесть томов по истории социалистической оппозиции сталинизму в Коммунистической партии Советского Союза и Коминтерне.
Дэвид Норт, главный редактор Мирового Социалистического Веб Сайта, выступил с речами на митингах в Берлине и Лондоне. Ниже следует текст его выступления, который на английском языке был впервые опубликован 15 декабря 1998 года.
--------------------------------
Почти три месяца прошло с того раннего утра, 18 сентября 1998 года, когда умер Вадим Захарович Роговин. Для всех, кто знал его, это большая личная утрата. Несмотря на то, что всем нам уже в течение более четырех лет было известно о его онкологическом заболевании, мы никак не могли примириться с неизбежным исходом этого недуга. Физическая и умственная жизнестойкость Вадима поддерживала наши надежды на то, что он сумеет окончательно преодолеть все свои неурядицы; с завершением еще одной книги или лекторского выступления мы являлись свидетелями того, как Вадим опровергает пессимистические прогнозы своих врачей. Казалось, он сможет, в силу мощи своих интеллектуальных и волевых возможностей, остановуить прогрессирование болезни.
В начале этого года Вадим посетил Австралию для того, чтобы принять участие в международном симпозиуме, который был организован Международным Комитетом Четвертого Интернационала под общим названием Фундаментальные проблемы марксизма в ХХ столетии. Когда он прибыл в Австралию после 24-х часового путешествия, мы все были напуганы тем, как он выглядит. Результаты самых последних медицинских анализов представляли материалы для весьма гнетущего чтения. И в самом деле, согласно результатам последних тестов, Вадим не имел ни малейшего права находиться перед нами. Мы часто задавали себе вопрос: было ли разумным просить его о том, чтобы он совершил столь изнуряющую поездку?
Вадим, казалось, не обращал никакого внимания на наше беспокойство. Он больше беспокоился о том, чтобы начать дискуссию по теме его лекции: Куда идет Россия? Социологический анализ и исторический прогноз. Как мы уже часто являлись свидетелями в продолжение предыдущих четырех лет, следующая за выступлением дискуссия оказывала на Вадима чрезвычайный терапевтический эффект. Спустя 48 часов после прибытия внешний вид Вадима преобразился. Казалось, что рак отступил под давлением его энергетического поля, сотворенного концентрацией его интеллекта. Шестого января, в 10 часов утра, он взошел на подиум. В течение последующих двух часов, практически ни разу не бросив взгляд на подготовленные им тезисы, Вадим подробно остановился на идеях, лежащих в основе его лекции. Еще один час он посвятил ответам на вопросы. В полдень, после обеденного перерыва, он вернулся на кафедру и обнаружил многочисленные письменные вопросы от аудитории, чей интерес к лекции был сильно возбужден. В течение более двух часов Вадим отвечал и на эти вопросы. Только далеко за полдень он окончил свою работу. Аудитория ответила продолжительной овацией - дань не только его интеллектуальной виртуозности, свидетелями которой явились все присутствующие, но и той цельности и силе характера, который сложился в продолжение длившейся всю жизнь работе выступавшего.
В тот момент казалось вполне естественным, что Вадим продолжит как опровергать медицинскую науку, так и работать, по крайней мере, еще несколько лет. Но та лекция оказалась его последним крупным выступлением на публике. Он все еще был в состоянии успешно завершить и отредактировать для печати шестой том своего цикла по истории сталинизма и борьбе против него. Но к концу весны, после поездки Вадима и его жены Гали в Израиль, болезнь вступила в свою завершающую стадию. Он потерял способность эффективно пользоваться своей левой рукой, а затем и способность ходить. Но работа его замечательного ума от этого нисколько не пострадала, и он продолжал трудиться до самых последних часов своей жизни над седьмым томом своей истории.
Такого человека, как Вадим, встречаешь в жизни только раз. В самом деле, узнать подобного человека, не говоря уже о том, чтобы иметь его в числе своих друзей, - громаднейшая привилегия. Вадима Роговина не забудут никогда. Те из нас, кто лично знал Вадима, и те, кто узнает о нем через изучение его работ, будут десятилетиями размышлять о значении его жизни. То, что говорится здесь сегодня, может быть только предварительной оценкой вклада Вадима в научное понимание судьбы социалистического движения ХХ-го столетия.
В мае 1997 года, по случаю шестидесятилетней годовщины Вадима, я охарактеризовал его как пророка исторической правды. В то время место Вадима в интеллектуальной жизни постсоветской России мне виделось как особый вызов, брошенный его работами грязной политико-интеллектуальной и моральной атмосфере постсоветской России, порожденной десятилетиями лжи по отношению к прошлому.
Но определение Вадима как пророка исторической правды не в меньшей степени подходит и к определению его роли за пределами бывшего СССР. Трудно припомнить какого-либо другого историка, чья работа находилась бы в такой непримиримой оппозиции к самодовольному и реакционному субъективизму и релятивизму постмодернизма, как работа Вадима Роговина. Для Вадима не было ничего более отвратительного, чем взгляды циников, так модные ныне в университетах Западной Европы и Соединенных Штатов, которые не оставляют в изучении и написании истории никакого места для какой-нибудь концепции на основе объективной истины. В этих взглядах, долгое время лелеемых реакционными мыслителями, Вадим не видел ничего оригинального. В конце концов, больше столетия прошло уже с тех пор, как Ницше сказал: "Лживость мнения не требует от нас опровержения", - фраза, которая означает, что ценность мнения - просто функция его оперативной полезности для какой-либо данной цели. Вадим настаивал на том, что различие между мнением и правдой имеет фундаментальный характер. Мнение, писал он, "является категорией социальной психологии, характеризующей чертой обыденной сознательности. Правда - категория науки и научного мира, образующая представление о том, что будущее основано на честном и объективном анализе прошлого и настоящего".
Стремление Вадима к объективной исторической правде составило существенный фундамент и цель его интеллектуальной жизни. Для Вадима проблема объективной правды не представляла собой некий абстрактный теоретический шаблон, произвольно накладываемый на предмет исторического исследования. Это было скорее открытием того, что присуще самому предмету. Для Вадима предметом исторического исследования являлась историко-политическая борьба внутри советской Коммунистической партии и Коммунистического Интернационала между 1922-м (за год до основания Левой оппозиции) и 1940-м годом, годом убийства Льва Троцкого агентом сталинского НКВД. Его непомерная интеллектуальная задача и моральная ответственность заключалась в том, чтобы извлечь объективную правду о событиях этого критического периода истории из-под громадного нагромождения лжи, воздвигнутого Сталиным и его преемниками, которые были провозвестниками постмодернистской историографии даже еще до того, как был введен в употребление сам этот термин. Если, как настаивают модернистские теоретики, не существует никакой необходимой взаимосвязи между историей и научно достоверной объективной правдой и, продолжают они, если исторические повествования просто придумываются и существуют только в воображении, то тогда представления о советской истории, высказанные Андреем Вышинским на трех Московских процессах, законны так же, как и любые другие. Разнообразные версии советской истории, представленные в различных изданиях официально одобренных энциклопедий в рамках подобной приниженной интеллектуальной концепции, не могут быть отвергнуты как ложные; скорее, их необходимо рационализировать и оправдать как альтернативные "представления" о прошлом. Апологеты постмодернизма могут доказывать, что подобные выводы не входят в их намерения, однако идеи имеют свою собственную логику.
Вадим Роговин осознал, что советская трагедия воплотилась в дезориентации и умерщвлении исторического самосознания. Политическая незрелость и путанность, характерные для реакции советского народа на события 80-х и 90-х годов, его неспособность найти прогрессивный ответ на кризис в обществе явилась, прежде всего, результатом десятилетий исторических фальсификаций. Было невозможно понять настоящее без реального знания прошлого. В той степени, в какой российский рабочий класс верил, что сталинизм явился неизбежным продуктом социализма и что трагический ход советской истории неумолимо вытекал из Октябрьской революции 1917 года, он был политически обезоружен и не смог увидеть никакой альтернативы демонтажу Советского Союза и реставрации капитализма. Главный вопрос, который поставил Вадим Роговин: Была ли альтернатива сталинизму? - является без всякого сомнения фундаментальным вопросом для понимания истории Советского Союза. Но ответвления данного вопроса простираются далеко за пределы границ бывшего СССР, их критическое осмысление имеет отношение не только к нашему осознанию прошлого, но и к нашему видению будущего. В контексте своего изучения советской истории Вадим Роговин имел дело с наиболее существенными практическими опытами и уроками двадцатого столетия. Вот почему работы Вадима Захаровича Роговина имеют мировое значение.
На протяжении своей профессиональной карьеры Вадим проявлял поразительную работоспособность писателя. Как социолог в своей curriculum vitae [кратком описании научного пути - ред.] он мог привести более 250 работ. Но даже это впечатляющее достижение бледнеет перед тем, что он совершил в продолжение последних семи лет своей жизни, когда он закончил шесть томов (каждый из которых состоит не менее чем из 350 страниц печатного текста) и был близок к завершению двух-третей седьмого. Подобно струящимся клубам сигаретного дыма, слова, казалось, без всяких усилий вытекают из-под его пера. Писательский тупик - это болезнь, которую он никогда не знал. Даже самые плодовитые писатели были не в состоянии выпускать в свет работы в масштабе его шести законченных томов исторического цикла - с таким широким охватом исследования и глубоким обоснованием - если только они не являлись результатом многих лет интеллектуальной подготовки. В самом деле, задолго до того, как он решил изложить свой труд на бумаге, громадные фрагменты этой работы уже приняли определенную форму в его уме. Исторический цикл Вадима явился продуктом научного поиска и мысли, длившегося целую жизнь.
Более того, решающий элемент интеллектуальной плодовитости Вадима коренился в глубинах его собственной идентификации с идеалами и духом революционного движения, чья трагическая судьба стала объектом его исторического исследования. Именно здесь лежит фундаментальное различие между Вадимом и громадным большинством западноевропейских и американских академиков, активно занимающихся исследованиями по России и СССР. Последние, за очень небольшим исключением, не в состоянии понять, не говоря уже о том, чтобы симпатизировать целям и мотивации революционеров. Подобные историки проектируют на прошлое свой собственный цинизм и апатию, выдавая почти болезненную неспособность постигнуть исторический период, самые великие представители которого руководствовались революционными идеями, за которые были готовы пожертвовать своими жизнями. Вадим был другим. Он не только сочувствовал героическим лидерам Левой оппозиции, он к тому же разделял их цели и идеалы. И это не было только позой. Более того, Вадим - в силу своей личности и силы мысли - напоминает собой тот общественный тип, который когда-то играл столь важную роль в России и мировой истории, но который был почти полностью уничтожен сталинизмом - тип революционной российской интеллигенции. Когда я думаю о Вадиме, я не могу не вспомнить абсолютно точный портрет духа этого необычного социального феномена, описанный Исаией Берлином: "Каждый русский писатель воспринимает себя так, как если бы он находится на сцене перед публикой, держа экзамен; а посему самое мельчайшее упущение с его стороны, ложь, обман или приступ самодовольства, отсутствие рвения к правде являются отвратительнейшими преступлениями... Если вы обращаетесь к публике, будь вы поэтом, романистом, историком, или выступаете в какой-либо другой общественной роли, то тогда вы берете на себя полную ответственность за руководство и направление народа. Если это - ваше призвание, то вы связаны "клятвой Гиппократа" - говорить правду и никогда не изменять ей, самоотверженно посвящая себя своей цели" (1).
Вадим родился в 1937 году, в том самом году, который был свидетелем истребления самых лучших представителей революционной традиции, программы и культуры, на которой основывались достижения Советского Союза в течение двух первых десятилетий его существования. Любой из тех, кто играл ведущую роль в победе Октябрьской революции, в формировании Советского Союза, или кто проявлял в какой-либо сфере советской жизни способность к независимому критическому мышлению, становился кандидатом на пулю палача. Сталинские чистки были средством, при помощи которого бюрократия консолидировала свою узурпацию политической власти. Но данное определение террора, каким бы точным оно ни было политически, не выражает само по себе адекватно социальные и культурные последствия кошмарных событий 1937 года. Все, что было реакционным и отсталым в российском обществе, ликовало в оргии массовых убийств, инициированных Сталиным, его местью революции.
Среди сотен тысяч сталинских жертв - дед Вадима по материнской линии, Александр Семенович Тагер. Он не был революционером, он был скорее представителем самых прогрессивных слоев старой русской демократической интеллигенции. Выдающийся юрист, Тагер выступал защитником на процессе 1922 года над лидерами эсеров, которым вменялось в вину организация террористических акций против режима большевиков. Существовал разительный контраст между судом над этими социал-революционерами и теми процессами, которые были организованы Сталиным полтора десятка лет спустя. Во-первых, подсудимых эсеров, непримиримых противников советского правительства, не принуждали ни к отказу от своих политических убеждений, ни к возведению на самих себя напраслины. Во-вторых, они могли в присутствии международных наблюдателей (включавших лидера Второго Интернационала Вандервельде) вести подлинную политическую и юридическую защиту от своего собственного имени. Александр Тагер выступал на суде как представитель юридических интересов своих клиентов, а не как второстепенный инструмент государственного судебного преследования.
И в самом деле, одно событие, произошедшее на суде, продемонстрировало мужество Тагера. Правительством в поддержку суда была организована демонстрация рабочих. Группа демонстрантов ввалилась в зал суда, чтобы прервать слушание и потребовать казни подсудимых. В суде председательствовал Юрий Пятаков, один из крупнейших большевистских лидеров. Он сообщил демонстрантам, что суд примет во внимание их желание. Тагер и несколько других защитников горячо протестовали против подобного насилия над должной юридической процедурой и покинули зал суда. В конце процесса некоторым подсудимым был вынесен смертный приговор. Правда, он был приостановлен на том условии, что партия эсеров прекратит свою кампанию терроризма против правительства. Впоследствии, после суда, Тагер был наказан за свое вызывающее поведение тем, что был отправлен в ссылку. Однако через несколько месяцев его вызвали назад в Москву, где против него не возбуждалось больше никаких дел. Более того, Тагер получил разрешение довольно регулярно путешествовать за рубежом вместе со своей женой, нуждавшейся в специальном медицинском лечении, которое не могло быть оказано в России. Вплоть до начала террора это не было чем-то необычным. Дед Вадима пользовался уважением и дружбой такой хорошо известной политической фигуры, как Анатолий Луначарский. В начале 30-х годов Тагер опубликовал авторское исследование позорного дела "Менделя Бейлиса", еврея, ставшего жертвой судебной инсценировки, организованной до революции царским режимом, которая включала вопиющие обвинения в будто бы совершении ритуального убийства. Предисловие к этой книге написал Луначарский, который настоял, чтобы книга была опубликована на как можно большем количестве европейских языков для сдерживания растущей угрозы антисемитизма. В 1938 году, несмотря на то, что он никогда не был связан с какой-либо антисталинской политической тенденцией, Тагер был арестован наряду с другими выдающимися юристами. Одним из примеров горькой иронии того страшного периода стало то, буквально за шесть месяцев до своего ареста Тагера пригласил для работы в своем юридическом аппарате не кто иной, как Андрей Вышинский, главный прокурор Советского Союза. Таким образом, когда тайная полиция (НКВД) пришла арестовывать деда Вадима, он успокаивал свою жену тем, что это не что иное, как ошибка, и что ей следует сразу же обратиться к Вышинскому, который, конечно же, обеспечит его скорейшее освобождение. Бабушка Вадима больше никогда не увидела своего мужа; больше десятилетия прошло до тех пор, когда она официально узнала о его казни.
Вадим трепетно хранил память о своем деде и был рад, когда в России переиздали работу Тагера по делу Бейлиса. Можно представить, какую травму нанес его семье арест, исчезновение и смерть Александра Тагера. Впервые об ужасах чисток Вадим узнал от своей бабушки; уместно предположить, как глубоко повлияло на формирование его интеллекта трагедия его семьи. Вадим рассказывал мне, что первое сознательное недоверие к природе сталинского режима посетило его, когда ему было 13 лет. Среди бесноватых празднований 70-летней годовщины Сталина Вадим обнаружил себя размышляющим над тем, почему буквально все другие старые лидеры большевиков нашли преждевременную кончину задолго до сей "знаменательной" вехи. Вадим спрашивал своего отца, почему большинство из соратников Ленина были расстреляны в 30-е гг. Как могло так случиться, что лидеры революции с такой легкостью были объявлены "врагами народа"? Попытки отца отделаться от сына пустыми и неубедительными ссылками на "антипартийную" деятельность оказались безуспешными. Обеспокоенный и, вероятно, напуганный этими расспросами отец Вадима высказал то, что в то время считалось окончательным ответом для пресечения дальнейших вопросов: "Разве ты не считаешь, что Сталин понимает это лучше, чем ты"? Вадима это не убедило. Он продолжал размышлять над тем, почему так много революционных лидеров, и даже его собственный дед, были расстреляны. Тогда совсем внезапно его посетила ужасная мысль, что он инстинктивно знает ответ на свой вопрос: должно быть, Сталин - преступник! Вадим продолжил спор со своей семьей. Возмужав, он осознал: Советский Союз - общество несправедливости. Он увидел бедность и заметил наличие резких контрастов в общественных условиях различных слоев населения Москвы. К тому же Вадим узнал, что существовали лагеря заключенных. В доме, где находилась его квартира, были арестованы некоторые люди во время кампании против "космополитизма", развязанной Сталиным в 1952-1953 годах. Таким образом, реакцией Вадима на известие о смерти Сталина в марте 1953 года, по его собственным более поздним воспоминаниям, были радость и ощущение праздника.
Изменение в политико-социальном климате Советского Союза, последовавшее после смерти Сталина, несомненно, самый важный фактор в интеллектуальном развитии молодого Вадима Роговина. Ему было почти 19 лет во время ХХ съезда КПСС. Когда содержание "секретной речи" Никиты Хрущева стало известно, - в ней впервые было сказано о сталинских преступлениях, - Вадим не был особенно удивлен этим откровениям. Стали известны новые важные факты, однако по большей части Вадим чувствовал, что все эти откровения только подтверждают его ненависть к Сталину. Вадима не удовлетворила попытка Хрущева объяснить преступления Сталина простыми издержками, порожденными "культом личности", не говоря уж о настойчивых утверждениях Хрущева, что сталинская политическая линия, - в частности, борьба против троцкистской оппозиции 20-х годов, - была в основе правильной.
Когда Вадим стал студентом Московского университета, где он занялся изучением эстетики, с его стороны потребовалось минимум усилий для того, чтобы закончить курс и получить отличные оценки. Вместо посещений лекций он проводил как можно больше времени в историческом отделе университетской библиотеки, где изучал старые статьи в газете Правда и в других газетах и журналах, которые проливали свет на политическую борьбу 20-х годов. По мере того как Вадим подробно конспектировал старые внутрипартийные дебаты, он убеждался в правильности позиции Троцкого и неуклонно приходил к заключению, что Троцкий являлся самой великой фигурой в советской истории. В дискуссии, которая состоялась у меня с Вадимом во время выходных, когда мы праздновали его 60-летнюю годовщину, он признался, что все основные концепции, которые должны появляться в его историческом цикле, первоначально сформировались в ходе тех его чтений, когда ему было 20 лет. С тех пор, - рассказывал мне Вадим, - он мечтал о времени, когда станет возможным рассказать советскому народу правду о его истории.
Но политические условия, превалировавшие в СССР, даже в течение знаменитой "оттепели" конца 50-х и начала 60-х годов, не привели к созданию серьезных исторических работ. Во время первоначальной стадии его академической карьеры главной областью научных изысканий Вадима была эстетика. Он проводил свое историческое исследование частным характером. Вадим мог дискутировать о заслугах политики, выдвинутой Троцким и Левой оппозицией, только с самыми надежными своими коллегами и друзьями, и даже в этом случае только с крайней осторожностью. Хотя критика режима все больше и больше стала входить в обиход, любое упоминание имени Троцкого все еще возбуждало подозрение и страх. Отец одного из друзей Вадима был хорошо известным журналистом, который однажды заметил среди небольшой группы диссидентов, что Троцкий был великим оратором. Журналист больше не выражал никаких мнений по поводу политических позиций Троцкого. Но эти нечаянные замечания привлекли внимание КГБ, журналист был быстро уволен со своей должности, а его семья доведена до нищеты. Как-то Вадим доверился одному хорошо известному театральному режиссеру, которого он уважал. Вадим выразил ему свое восхищение взглядами Троцкого на искусство. Режиссер был потрясен. "Почему вы говорите со мной так открыто?" - спросил он. Вадим объяснил, что верит в то, что режиссер, который является как его личным другом, так и человеком с цельным характером, не сможет донести на него. Режиссер его успокоил, сказав, что не сделает этого, но пояснил, что лично он сам может иметь неприятные последствия, если мнения его молодого друга станут известными властям.
Существовал еще один фактор, помимо страха, который усиливал чувство изолированности Вадима. Диссидентское движение, появившееся в середине 60-х, проявляло очень незначительный интерес к критике бюрократического режима с позиций социализма. Движение диссидентов критиковало сталинизм не слева (то есть на базе социалистической программы), а справа (то есть обращаясь за политической поддержкой к американской буржуазии). В этой среде политическая программа Троцкого была предана анафеме.
Несмотря на свою любовь к литературе и искусству, Вадим стремился найти сферу научных исследований, более прямо связанную с его истрико-политическими интересами. К счастью, режим начал ослаблять свои прежние ограничения на социологические исследования, правда, лишь потому, что нужды бюрократии в осуществлении ее политики требовали более глубокого внутреннего взгляда на структуру и проблемы такого сложного общества, как Советский Союз. Поэтому Вадим заново принялся за свои изыскания официально и стал социологом. Открыто не признавая сей факт, он вывел из программы Левой оппозиции центральную тему своих академических исследований: проблема социального неравенства в Советском Союзе. Вадим использовал свои социологические изыскания для того, чтобы выявить пропасть между социалистическими идеалами и советской реальностью и защитить развитие эгалитарной политики. В списке работ Вадима имеются такие названия, как Молодежь и социальный прогресс; Социальная политика в развитом социалистическом обществе: Направления, тенденции, проблемы; Социальные гарантии и проблемы совершенствования отношений распределения; Экономическая эффективность и социальная справедливость; Социальная справедливости пути ее реализации в социальной политике; Социальные аспекты политики распределения; Социальные аспекты ускорения разрешения проблемы жилищного строительства; Диалектика социального равенства и неравенства на современном этапе развития советского общества.
Кризис СССР стал очевиден в годы правления Брежнева, известные как "эпоха застоя". Для Вадима это был период глубокого разочарования. Его более ранние надежды на то, что социалистические принципы будут возрождены в СССР, казались все менее и менее реалистичными. "Оттепель" еще раз отступила перед новым "заморозком". Давление государства было направлено на подавление критического изучения исторической роли Сталина. Все, что Вадим написал, являлось предметом построчного внимания цензуры, некоторые статьи так никогда и не увидели свет; многие были опубликованы только после устранения целых частей или существенного редактирования. Тем не менее в последний период "эпохи застоя" Вадиму неожиданно повезло. Обычно цензоры обсуждали статьи, подвергшиеся просмотру, только с издателями или редакторами журналов и газет, в которые эти труды направлялись для публикации. Один из высших чиновников в комитете по цензуре оказался заинтригован работой Вадима. Он решил войти в контакт прямо с автором. Он никогда прежде не читал статьи, которые бы рассматривали проблемы социального неравенства с такой глубиной, ясностью и отвагой. Почему, удивлялся он, Вадим так упорно занимается этой темой? Почему он верит, что социальное равенство достижимо? Совместимо ли оно с человеческой природой? Как действующее лицо в драме бытия Вадим оказывался вовлеченным в продолжительный философский диспут с каждым отдельным чиновником, обладавшим властью послать его книги в костер. Его судьба была в неопределенности, однако цензор, чья совесть не была полностью утрачена годами бюрократической рутины, оказалась тронутой силой аргументов Вадима. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить публикацию его статей.
С приходом к власти Горбачева и введением гласности аудитория читателей Вадима возросла безмерно. Пользуясь преимуществами новых возможностей, Вадим написал в 1985 году серию статей для газеты Комсомольская правда, в которых подверг критике господство социальных привилегий как в открытой, так и в скрытой форме и потребовал резких ограничений в неправомерном распределении доходов, призвав к существенному улучшению уровня жизни широких народных масс. Цензор Вадима выразил неудовольствие, но напечатать статьи позволил в том виде, как они были написаны. Тираж Комсомольской правды составлял 20 миллионов экземпляров, и статьи вызвали широкий резонанс. Их повсюду интерпретировали как атаку на социальное положение правящей бюрократии. За несколько последующих месяцев в редакцию Комсомольской правды пришли тысячи писем, осуждавших или хваливших статьи.
Вначале политические изменения, вызванные приходом к власти Горбачева, ободрили Вадима. Для него открылись возможности не только обращаться к социальным проблемам более смело и перед гораздо большей аудиторией, но и в первый раз открыто говорить о Льве Троцком и политике, которую Левая оппозиция вела против роста сталинизма. Еще одним решающим событием явился внезапно появившийся доступ к книгам Троцкого, особенно в отношении тех, которые были написаны в 30-е годы и которых до того момента Вадим не видел. Впервые он достал комплект Бюллетеня Оппозиции, самого важного издания международного троцкистского движения на русском языке. Вадим "проглотил" эти произведения, еще сильнее утвердившие и углубившие его троцкистские убеждения. Для Вадима эти произведения представляли не только историческую, но и исключительную современную значимость, ибо вскоре стало очевидным, что ни один сегмент политической или интеллектуальной элиты не имел какого-либо серьезного понимания природы кризиса, перед лицом которого оказался Советский Союз. С каждым объявлением нового, "исторически необходимого" изменения в политическом курсе, взбалмошные импровизации Горбачева приобретали все более и более абсурдный характер. За исключением своих разъездов по миру в поисках удовлетворения собственного тщеславия, Генеральный секретарь не имел ни малейшего представления о том, что он делает. Смятение Горбачева как в зеркале отразило дезориентацию всей советской интеллигенции. Казалось, будто ничего в их предшествующей деятельности не подготовило их к распаду СССР в конце 80-х годов.
Вадим был убежден, что проблемы Советского Союза не могут быть ни решены, ни поняты без исчерпывающего ретроспективного взгляда на историю. Насущная потребность в таком взгляде нашла свое выражение в очистке всех исторических документов от накопившейся лжи в отношении Льва Троцкого. Возможность обновления советского общества на социалистических принципах зависела от честного изучения троцкистской критики сталинизма и альтернативной программы, выдвинутой Левой оппозицией. По мере того, как ухудшалась политическая и экономическая ситуация в СССР, Вадиму казалось, что невозможно противиться возврату к работам Троцкого. Но в тот момент Вадим столкнулся с социально-политическим феноменом, который еще раз оставил его в изоляции - а именно, сдвиг буквально всей интеллигенции вправо. Вадим уже давно знал о развитии правых тенденций среди интеллигенции. Движение диссидентов никогда не привлекало его из-за своей ориентации на международное буржуазное общественное мнение и враждебности к марксизму. Однако, по меньшей мере, в академических и интеллектуальных кругах, в которых он вращался, критика официальной советской политики велась в терминах социализма. Правда, по мере того, как восьмидесятые подходили к концу, его друзья и соратники по работе, за малым исключением, все больше проявляли безграничное восхищение и веру в капиталистическую систему. Они оставались глухи к аргументам и резонам, основанных на фактах. Раз за разом Вадим обнаруживал, что вынужден порвать отношения с друзьями и коллегами. Среди последних были Станислав Шаталин, один из самых близких знакомых Вадима, с которым он однажды даже выступал соавтором статьи. Но Шаталин стал одним из советников Горбачева по экономике и приобрел известность как один из авторов программы "500 дней", защищавшей использование методов "шоковой терапии" для реорганизации советской экономики на базе капиталистического рынка.
Побочным продуктом этого крена вправо явилось раскручивание новой кампании в средствах массовой информации, нацеленной на дискредитацию идей троцкизма как альтернативы сталинизму. С редким бесстыдством средства массовой информации сочетали реакционные аргументы западных социологов с наихудшей клеветой эпохи сталинизма. Вся эта кампания против Троцкого, которая, по сути, была направлена против наследия марксистского социализма как целого, нашла широкий отклик в среде разлагающейся экс-советской и русской интеллигенции. Наиболее значительным - или, может быть, лучше сказать, наиболее известным - продуктом этой кампании, была серия книг, написанная генералом Дмитрием Волкогоновым.
Именно внутри такого реакционного окружения Вадим задумал осуществить интеллектуальный труд, которому он посвятил остаток своей жизни - написание марксистской истории политических конфликтов в рамках Коммунистической партии и Коммунистического Интернационала. Это была задача, на которую ни один другой историк в бывшем Советском Союзе, не говоря уже о зарубежных, не был способен. Почему так вышло? "Великая история, - как-то сказал Э.Х. Карр, - пишется только тогда, когда видение историком прошлого освещено глубоким взглядом на проблемы настоящего" (2). Это замечание дает нам ключ к пониманию достижений Вадима как историка. Конечно, Вадим привнес в свою работу определенные исключительные способности: энциклопедическое знание советской истории, изумительный охват широкого корпуса фактов, непогрешимую способность выстраивать события в границах социально-политического контекста, а также ясный и простой стиль изложения. Но помимо этих сильных сторон, он обладал, к тому же, еще одним неоценимым преимуществом - глубоким сознанием того, что современный кризис не только в России, но и во всем мире, является результатом поражения, которое международное социалистическое движение потерпело в 20-х и 30-х годах вследствие предательств и преступлений сталинистской бюрократии.
Тем не менее в цикле Вадима нет и следа пессимизма. События, о которых он повествует и которые он анализирует, особенно в тех томах, которые напрямую связаны с подготовкой и осуществлением сталинского террора в 1936-39 годах, определенно страшны. Они составляют материал, который можно читать только с содроганием. Но среди всего этого ужаса Роговин представляет советскую трагедию как драму, чей финальный акт еще впереди. Так, в предисловии к своему третьему тому он пишет: "Исторический процесс, открытый Октябрьской революцией, не был завершен, он был просто приостановлен". То, что содействовало моральной цельности работы Вадима - не его негодование как автора, а, прежде всего, его убеждение в том, сталинизм представляет собой только временный сбой в деле мирового социализма. Несмотря на поражение, которое движение потерпело в 30-е годы, троцкизм воплотил в себе возможность развития Советского Союза в совсем другом направлении, по гораздо более прогрессивному пути. Само по себе существование этой возможности опровергает все утверждения о сталинизме как необходимом и неизбежном следствии большевизма. Неоспоримым фактом является то, что альтернатива сталинистским мерам существовала, а это означает, что исторический потенциал социализма не был исчерпан.
Историческая концепция Роговина динамична по своей сути. В основе ее настойчивого акцента на неуменьшаемой значимости событий 30-х лежит теория Вадима об историческом времени как едином и пересекающемся континууме прошлого, настоящего и будущего. Сталкиваясь со огромными проблемами своего собственного столетия, Вадим глядел в прошлое не только для того, чтобы предвидеть будущее, но также и для того, чтобы формировать его. Возможно, самым точным выражением роли, к которой стремился Вадим, могут служить стихи Пастернака, которыми открывается четвертый том его цикла:
Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
Еще один решающий элемент исторического труда Вадима - это его интерпретация конфликта между сталинистским режимом и Левой оппозицией как столкновения двух непримиримых социальных принципов - а именно, равенства и неравенства. Социальной сущностью политической программы троцкистской оппозиции, представлявшей интересы рабочего класса, была борьба за равенство. Цель, нашедшая выражение в политике сталинского режима, его обращение за поддержкой к бюрократии и к различным промежуточным социальным слоям, заключалась в неравенстве. Борьба за социальные привилегии, достижение материального благополучия немногих за счет многих приняла свои неизбежно жестокие формы в политических зверствах сталинистского режима. Диктатор-убийца стал персональным выражением сущностных общественных представлений бюрократии: "Сталинская жадность к материальным благам, его стремление к безграничной роскоши в повседневной жизни передавались дальше его последователям, включая и Горбачева, - все они, в отличие от большевиков старой гвардии, не желали разделять физические трудности и лишения вместе со своим народом" (3).
Анализ социальной базы сталинизма, сделанный Вадимом, способствовал его лучшему осмыслению последующего распада СССР. Он часто доказывал, что процесс капиталистической реставрации коренился в реакционной, антиэгалитарной политике, осуществлявшейся Сталиным с 30-х годов до самой его смерти. Вадим заметил, что враждебность профессиональной и интеллектуальной элиты к советскому режиму началась как реакция на усилия преемников Сталина, пусть и в ограниченном масштабе, сократить уровень социального неравенства, которое покойный диктатор поощрял. Номенклатуре претили социальные уступки рабочему классу, которые советская бюрократия считала необходимыми после смерти Сталина. Диссидентское движение, настаивал Вадим, развивалось из этого недовольства и, в строгом смысле, действительно являлось порождением самого сталинизма, а не оппозицией ему.
Защита марксистских принципов приговорила Вадима к почти полной изоляции после распада СССР в декабре 1991 г. Зрелище политической реакции, социальный регресс и падение нравов наполнили Вадима чувством отвращения. То, что он считал существенным для творческой интеллектуальной работы - постоянный обмен идеями с коллегами и друзьями, пользующимися доверием, - стало почти невозможным в 1992 году. Не осталось буквально никого, с кем он мог бы обсуждать содержание первого тома своего исторического цикла, а добиться его публикации он смог только с превеликим трудом.
Именно тогда Вадим Роговин установил контакт с Международным Комитетом Четвертого Интернационала. Отношения, развивавшиеся в последующие шесть лет, повлияли на нас не менее глубоко, чем на него. В конце 80-х годов перед тем, как он познакомился с Международным Комитетом Четвертого Интернационала, у Вадима были дискуссии с левыми течениями за пределами Советского Союза, которые считали себя троцкисткими. Он стремился больше узнать о перспективах и программе Четвертого Интернационала. Вадим познакомился с лидером движения паблоистов Эрнестом Манделем. Но дискуссии с Манделем оставили у Вадима чувство крайнего разочарования. Когда Вадим попросил Манделя проанализировать ситуацию в Советском Союзе, то ожидал услышать острую критику политики кремлевской бюрократии. Вместо этого Мандель рассыпался в похвалах Горбачеву и выразил большие надежды на ход перестройки. Казалось, он искренне удивлен открытием, что Вадим не разделяет его восхищения Генеральным секретарем ЦК КПСС. Мандель произвел на Вадима впечатление некоего степенного "буржуазного профессора".
И все же счастливое стечение обстоятельств свело Вадима с МКЧИ. В 1992-93 годах Фред Чоут, мой хороший друг и сторонник Международного Комитета, находился в Москве, исследуя биографию Александра Воронского, одной из ключевых фигур в Левой оппозиции. Фреду попался журнал, в котором была помещена небольшая статья о взглядах Троцкого на литературу. На Фреда произвел большое впечатление объективный тон статьи и честность, с которой она суммировала позиции Троцкого. Это было не совсем обычным делом - читать статью о Троцком в советском журнале, не приглаженную "тяжелым утюгом" цензуры и не имевшей ложных толкований. Автором выступал Вадим Роговин. Фред решил установить контакт с Роговиным. Он узнал его телефонный номер, позвонил и назначил с ним встречу. Их знакомство прошло очень хорошо. Вадим с восторгом вел серьезную дискуссию по предмету Левой оппозиции. Тем не менее Фред не сразу поведал Вадиму, что он лично связан с троцкистским движением.
Потом вмешалась судьба. Немногим ранее Вадиму попалась на глаза копия русскоязычного издания Международного Комитета - Бюллетень Четвертого Интернационала. Он и его жена Галя тщательно изучили содержание и решили, что Бюллетень является подлинным троцкистским изданием. Именно Галя, со свойственной ей проницательностью, сказала Вадиму, что ему следует найти какую-нибудь возможность вступить в контакт с ... Дэвидом Нортом! Но как это сделать? Вадим поднял этот вопрос в беседе с Фредом. Слышал ли он, - спрашивал Вадим, - когда-либо о Норте; есть ли у Фреда какая-нибудь идея о том, как он (Вадим) мог бы познакомиться с этим человеком? Фред дал понять Вадиму, что считает себя в состоянии оказать ему некоторую помощь.
Пока Вадим искал нас, Международный Комитет искал его. Между 1989 и 1991 годами я несколько раз посетил Советский Союз. Я надеялся, что где-то в обширнейшем академическом сообществе посреди развала СССР можно найти ученого, оценившего необходимость выявить преступления, совершенные сталинизмом против социалистического движения и, более того, написать о той борьбе, которую Троцкий и Левая оппозиция вели против роста бюрократии и консолидации власти в 20-30-х годах. Поиск оказался тогда безуспешным. Один за другим, историки и социологи, с которыми я беседовал, проявляли себя циниками с узким кругозором, не заинтересованными и не способными на серьезную работу. Климат политической реакции подавил всякие принципы и идеалы, в которые они когда-то верили. Создавалось впечатление, что они считают марксизм ответственным за любую проблему, с которой они сталкиваются как в обществе, так и в их собственной жизни. Они видели в реорганизации России на базе капитализма настоящую панацею от всех бед.
Я припоминаю дискуссию с одним хорошо известным советским ученым, имевшим высокое положение в московском Историко-архивном институте, которая состоялась осенью 1991 года. Еще двумя годами раньше, тот же самый человек предоставил в мое распоряжение основную аудиторию своего института, где я вступил с лекцией на тему: "Борьба Троцкого против Сталина". Но с тех пор он отступил под давлением реакции, и от его ранних социалистических убеждений не осталось абсолютно ничего. Сейчас он твердо придерживался мнения, что установление рыночной экономики быстро решит все проблемы России. Я спорил с ним, объясняя, что ничем не сдерживаемое подчинение России мировой экономике отбросит ее на сотню лет назад. "Это, - ответил он лаконично, - представляет гигантское улучшение по сравнению с тем, что мы имеем на сегодня". От людей с такими взглядами нельзя ожидать какого-нибудь позитивного ответа на предложение объективно исследовать троцкистскую оппозицию сталинистскому режиму. Общественно-политическую точку зрения, которую они усвоили, не позволяла им допустить возможность гротескного извращения принципов Октябрьской революции и того, что политике, осуществлявшейся советской бюрократией, со стороны Левой оппозиции была противопоставлена подлинная и жизнестойкая социалистическая альтернатива.
В марте 1992 года, вопреки апатии и оппозиции, бытовавших среди деморализованных остатков советской интеллигенции, Международный Комитет начал кампанию в защиту исторической правды: выявлять фальсификации, предательства и преступления сталинизма; на основе исторических документов доказать непримиримую оппозицию марксизма, нашедшую свое воплощение в героической борьбе Троцкого и Левой оппозиции против сталинизма. 11 марта 1992 года в докладе, открывшем 12-й Пленум МКЧИ, было заявлено: "Для того, чтобы ответить на ложь, будто сталинизм есть марксизм, от нас потребуется выявить дела сталинизма. Для того, чтобы осознать, что такое сталинизм, необходимо показать, кого сталинизм убил. Мы обязаны ответить на вопрос: "По какому врагу сталинизм наносил самые жесточайшие удары?" Самой значительной политической задачей нашего движения должно быть восстановление исторической правды, выявление далеко идущих последствий преступлений, совершенных сталинизмом. В самом центре этого процесса выявления должно находиться открытие документов, связанных с Московскими процессами, чистками и убийством Троцкого... Когда мы говорим о кампании за предание гласности исторической правды, мы видим это как задачу, приносящую выгоду не только рабочему классу в узком смысле, но и всему прогрессивному человечеству. То, что происходило на Лубянке, является предметом беспокойства всего борющегося человечества. Выявление преступлений сталинизма есть, по сути, необходимая часть преодоления ущерба, который последний причинил развитию общественной и политической мысли" (4).
Большую часть своей жизни, Вадим не имел возможности открыто высказывать в полемике свои троцкистские убеждения, не говоря уж об участии в работе Четвертого Интернационала. Подобным же образом наше движение десятилетиями сохраняло наследие борьбы Троцкого без всякой возможности устанавливать контакты с истинными марксистами в Советском Союзе. И все-таки, вопреки чудовищным препятствиям, явившимся продуктом неблагоприятных исторических условий, траектории Вадима и Четвертого Интернационала после изолированных в течении более полстолетия маршрутов в конце концов вышли на одну орбиту.
Дискуссии между Вадимом и Четвертым Интернационалом начались поздней весной 1992 года. Первоначально, большинство обменов мнениями шли через посредничество нового средства - электронной почты (E-mail). С Фредом, выступавшем в роли посредника с нашей стороны, мы обменивались, хотя и в несколько ограниченной форме, идеями и предложениями относительно развития литературной и политической работы. В октябре 1992 года Вадим в продолжение короткого визита в Берлин имел непродолжительную встречу с товарищем Петером Шварцем. В феврале 1993 года во время семинара по истории Международного Комитета в Киеве, я и Вадим встретились в первый раз. Беседы, которые мы вели в выходные дни, установили образец общения, удерживавшийся и в последующие годы: мы говорили, спорили, доказывали, не соглашались и соглашались, смеялись и строили планы. В ходе дальнейших встреч в Москве в 1993-ом и в начале 1994-го года мы обсуждали в подробностях разработку исторического цикла Вадима. Как я уже сказал, основные контуры работы были обрисованы Вадимом за многие годы исследований и размышлений. К тому же, вследствие его диспутов с Международным Комитетом, интеллектуальный и политический масштаб его работы значительно расширился. Уже после самых первых дискуссий Вадим решил, что ему нужно заново пересмотреть и переписать свой первый том. Я не хочу сказать, что Вадим своими идеями обязан Международному Комитету. Диалектический ход его мысли невозможно понять в таких терминах; скорее, творчество Вадима было стимулировано дискуссией, активизировавшей его воображение и вызвавшей к жизни осознание новых идей. Сперва Вадим полагал, что его проект потребует четырех томов. Влияние от его сотрудничества с Международным Комитетом нашло свое наиболее прямое выражение в факте, что масштаб проекта вырос до семи томов.
Работа Вадима будет доминировать в исторической литературе по теме сталинского террора в продолжение десятилетий. Труд таких монументальных размеров опрокинет любую попытку поверхностного обобщения. Здесь необходимо сделать акцент: то, что отличает работу Вадима от буквально всех других, - его упор на то, что главной целью и функцией террора являлось уничтожение сталинистским режимом троцкистской оппозиции. Исходя из постоянных утверждений самого режима Сталина о том, что целью террора являлось уничтожение троцкизма, обыкновенный читатель, незнакомый со стандартными трудами по террору, написанными западными историками, мог бы удивиться, почему я рассматриваю этот аспект тезисов Вадима как исключительный и существенный. Ответ таков: большинство западной историографии на тему чисток посвящалось сведению до минимума, если не совсем к сбрасыванию со счетов, центрального стержня борьбы против Троцкого и его идей. Как заметил Вадим, работа Роберта Конквеста, которая более 30-ти лет была самой известной в этой области, троцкизму посвятила только несколько страниц. Хотя, возможно и не в такой грубой форме, многие историки, даже те, кто писал свою работу честно и сознательно (есть и такие люди), утверждали, что террор был направлен почти на все, что угодно, только не на борьбу с Троцким. В конце концов, - аргументируют они, - Троцкий был выслан из Советского Союза в 1929 году. Большинство из наиболее известных членов старой Левой оппозиции отказались от своих прежних троцкистских взглядов. Систематические репрессии сделали невозможным развитие политической борьбы среди каких-либо остатков троцкистских групп, которые еще могли существовать к середине 30-х годов.
Вадим отверг эти представления, которые, как он доказывал, недооценивают потенциал марксистской традиции в Советском Союзе, глубину революционных чувств среди широких слоев населения. Более того, несмотря на свою капитуляцию и отречение, старые большевики никогда не примирились со сталинским режимом и оставались потенциальными лидерами подъема возмущения народных масс. Даже внутри бюрократии оставались элементы, не полностью порвавшие со своим революционным прошлым, и на которых Сталин не мог полностью положиться. Труды Троцкого были в ходу и оказывали влияние. После убийства Кирова в декабре 1934 года в его квартире было найдено несколько томов Троцкого. Вадим проанализировал связующие звенья между оппозиционерами, существовавшими в СССР, и Троцким. Чистки не были следствием паранойи сумасшедшего. Сталин, настаивал Вадим, имел реальные причины бояться влияния Троцкого не только внутри Советского Союза, но и за его пределами. Какова, в таком случае, цель террора? "Великая чистка 1937-1938 годов, - писал Вадим, - были нужны Сталину именно потому, что только таким путем было возможно украсть жизнестойкость усиливающегося революционного движения Четвертого Интернационала, предотвратить его трансформацию в эпохальную революционную силу, дезориентировать и деморализовать мировое общественное мнение, способное, в противном случае, стать восприимчивым к троцкистским идеям".
В начале 1994 года был опубликован второй том исторического цикла Вадима. Из печати вышло 10.000 экземпляров и, так как не было никакого другого места, где они могли бы храниться, все книги были свезены на квартиру Вадима. Кипы книг, обернутых коричневой бумагой, лежали повсюду - на полках, в кладовках, под кроватями и стульями, на холодильнике. Вадим был в восторге от прибытия "новорожденного" и уже трудился вовсю над третьим томом. Вдобавок к поддержке Международного Комитета, выпуск в свет ранее закрытых документов из госархивов дал мощный импульс его научным изысканиям и литературному труду. Никогда прежде в своей жизни, как часто признавался Вадим, не был он так счастлив. В конечном итоге, он смог завершить все то, о чем в прошлом мог только мечтать. Однако случилось неожиданное. В январе 1994 года он прошел всестороннее медицинское обследование, включавшее томографию пищеварительного тракта. Доктора сообщили, что они удовлетворены его здоровьем. Однако в мае в ответ на жалобы пациента врачи Вадима заново исследовали старую томограмму. На этот раз они заметили пятно, которое раньше обнаружено не было, и решили сделать еще одну томографию. На этот раз опухоль в прямой кишке была очевидна. Произвели операцию, большая опухоль была удалена с его ободочной кишки. Хирург также обнаружил две метастазы в печени Вадима, с которыми попытался справиться при помощи резекции. Прогнозы ухудшались: предвидели быстрый физический упадок здоровья. Было маловероятно, что Вадим протянет больше одного года.
Вадим воспринял новость с чрезвычайным спокойствием. "Не вижу ничего особенно трагичного в моей личной судьбе", - сказал он. Невозможно не восхищаться стоической реакцией Вадима, но все мы чувствовали, что в этом неожиданном и ужасном развитии событий есть нечто глубоко трагичное, почти в классическом смысле слова. В тот самый момент, когда объективные условия, наконец, позволили Вадиму осуществить чаяния всей своей жизни, он оказался поражен безжалостной и неизлечимой болезнью. Осенью 1994 года, когда он вполне оправился от своей операции, я навестил его в Москве. Он возобновил работу над третьим томом, надеясь завершить его в продолжение нескольких месяцев. Как всегда, первым пунктом нашей встречи было обсуждение порядка дискуссий. Самый важный пункт - "планы на будущее". Мы говорили о воздействии новой кампании фальсификаций, развязанной в связи с выходом в свет книг профессора Ричарда Пайпса и генерала Дмитрия Волкогонова. Не пришло ли для Международного Комитета время, предложил я Вадиму, начать "международное контрнаступление против постсоветской школы исторических фальсификаций"? Вадим сразу же повторил название, звучавшее по-русски даже более грандиозно и внушительно. На Вадима оно оказало сильное действие. Я спросил его, готов ли он совершить турне по Соединенным Штатам Америки с лекциями в начале весны 1995 года. Вадим приветствовал предложение с энтузиазмом. В тот момент у меня не было ни малейшего представления о том, доживет ли Вадим до весны. Перспектива лекторской поездки за рубеж оказала на Вадима более значительный терапевтический эффект, чем любое другое лечение, известное медицинской науке. Так как дух был на подъеме, способность Вадима к работе, казалось, восстановилась полностью. Он быстро завершил третий том и окунулся в подготовку к своим американским лекциям.
Первая лекция должна была состояться в Мичиганском государственном университете в Лансинге; вторая - в Мичиганском университете в Эн-Эрбор. Дальнейшие беседы планировались в Паоло-Альто и Бостоне. Наша партия организовала кампанию по превращению лекций в нечто такое, чего давно уже не бывало в университетских корпусах Соединенных Штатов, по меньшей мере, в течение последних 20 лет. Мы рекламировали лекции как "крупнейшее интеллектуальное событие" - как нечто такое, что поразило бы студентов необычностью, странностью и привлекательностью, быстро вызвало бы громадный интерес и воодушевление среди них. Со времени моего визита в Москву прошло несколько месяцев. Меня мучила мысль: сможет ли Вадим перенести тяготы путешествия и напряжение серии лекций. Но моя обеспокоенность вскоре была развеяна. Настроение Вадима было почти эйфорическим, а его физическое состояние создавало впечатление, что он пышет здоровьем. Его интерес к каждому кусочку американской жизни был неисчерпаем. Вскоре мы открыли для себя, что с нами находится самый грандиозный любитель достопримечательностей со времен Марко Поло. Между обсуждениями его предстоящих лекций Вадим настаивал на осмотре как можно большей части Детройта и его окрестностей. Его интерес к социологии был не только интересом теоретика. Вадим обладал острой наблюдательностью и был поражен разнообразием, аномалиями и противоречиями Соединенных Штатов. Вадим хотел попробовать вкусить как можно больше американской жизни, причем, можно сказать, в буквальном смысле слова. В поездке на мол Вадим заметил киоск мороженного. Он вошел бодрым шагом и был изумлен разнообразием запахов. Он заказал тройной пломбир с фруктами и сиропом. Продавец за стойкой указал на обширный ассортимент добавок и спросил Вадима, что бы тот хотел выбрать к своему мороженному. "Все что есть", - ответил он.
Лекции прошли с триумфом. В Мичиганском государственном университете присутствовало почти 150 студентов, преподавателей и административных работников. В Мичиганском университете аудитория состояла из почти 250 человек. Вадим обладал даром доносить до разношерстной публики сложные идеи в легкой, доступной и интересной форме. Особое внимание Вадим уделял обратной связи с аудиторией. Больше всего он любил отвечать на вопросы, потому что они позволяли оценивать реакцию на выступление со стороны присутствующей публики для того, чтобы прояснить элементы своего выступления и вырабатывать новые идеи, ранее не приходившие ему в голову.
По окончанию турне по Соединенным штатам мы договорились о дальнейших лекциях, которые можно было организовать в других уголках мира. В феврале 1996 года Вадим читал лекции в Англии и Шотландии. В мае-июне 1996 в Австралии Вадим выступал с лекциями перед аудиториями, в которых многие стояли на ногах и размеры которых шокировали - а часто, по-видимому, и повергали в уныние - исторические факультеты тех университетов, где проходили эти встречи. Четыре лекции, с которыми выступил Вадим: две в Сиднее и две в Мельбурне, -привлекли почти две тысячи человек. В декабре 1996 года Вадим приехал в Германию, чтобы прочитать лекции в Гумбольдтском университете Берлина и в Бохуме.
Вадиму был приятен успех его лекций. Но самое большое удовлетворение он черпал от встреч с товарищами из Международного Комитета. Глубина изоляции Вадима в России заставила его быть гораздо более благодарным по отношению к друзьям и истинным товарищам. Вадим нашел среди них чувства идеализма и солидарности, которые были невозможны в рамках забюрократизированных организаций, известных ему в СССР. Встречи и работа с троцкистами со всего мира были для Вадима и Гали не только политическим и интеллектуальным, но и глубоко эмоциональным опытом. По мере того, как близился срок возвращения в Москву, настроения Вадима и Гали неуклонно мрачнели. Они старались вернуть свое душевное спокойствие ливнем подарков, обрушиваемым на своих гостеприимных хозяев. Когда они прибыли в аэропорт и пришло время прощаний, царили только объятия и слезы.
Жизнь в Москве была для Вадима нелегка. Во время путешествий за рубежом работа, казалось, творила чудеса с его здоровьем и душевным состоянием. По возвращениям в Москву часто следовал физический и эмоциональный спад. Учитывая природу болезни Вадима, длительные и изнуряющие сеансы химиотерапии были неизбежны. Они отягощались для Вадима еще больше из-за чувства изоляции в России. От его старого круга друзей и коллег мало что осталось. Многие из них просто приспособились к новому окружению, отбросив в сторону свои прошлые убеждения и принципы. С такими людьми Вадим отказывался поддерживать какие-либо личные контакты. Одновременно были и другие друзья, менее приспособившиеся, которые чувствовали, что жизнь их потеряла всякий смысл и полностью деградировавших в условиях постсоветского быта. Вадим и Галя делали все, что могли, для поддержания и ободрения таких друзей. Однажды Вадим пригласил на обед одну старую знакомую. Он хотел, чтобы я встретился с ней и обсудил работу и перспективы нашего движения. Она слушала в тишине, редко вставляя какие-нибудь слова. Те некоторые замечания, которые были ею выражены, были полны глубочайшего пессимизма и деморализации. После того, как женщина ушла, Вадим объяснил: "Когда-то она была, возможно, самым честным и уважаемым журналистом в Советском Союзе. Ее статьи по социальным проблемам и условиям повседневной жизни читались миллионами людей. Она получала тысячи писем каждую неделю. Затем газету ее закрыли, и она не смогла найти себе другую работу. Ее аудитории читателей больше не существовало, и она сама не видела дальнейшего смысла в жизни. Я знаю много людей подобных ей".
Для того, чтобы поддерживать свое собственное эмоциональное равновесие, Вадим пытался, в той степени, в какой это было возможным, держаться поодаль от повседневной политической деятельности. Как однажды заметил Авнер Зись, блестящий советский специалист по этике, оставшийся одним из нескольких близких друзей Вадима: "Мы смотрим новости по телевидению и видим только два типа людей - идиотов и бандитов". Вадим как только мог пытался сосредоточиться на своем историческом труде. Но глубина интеллектуальной, социальной и моральной деградации глубоко повлияла на него. Хотя он и понимал контрреволюционную природу сталинизма, Вадиму было трудно признать - эмоционально, если даже не интеллектуально, - что из Коммунистической партии, организации с 40 миллионами членов, не смогло выйти по крайне мере несколько десятков, а то и тысяч, настоящих марксистов.
Во время выходных, когда Вадиму исполнилось 60 лет, КПРФ созвала антиельцинскую демонстрацию, совпавшую с 42-й годовщиной победы над нацистской Германией. Несмотря на то, что он презирал Зюганова, Вадим надеялся, что дата демонстрации вызовет какие-то остаточные чувства среди населения Москвы. "По крайней мере, мы увидим несколько красных флагов", - сказал Вадим, убеждая меня пойти с ним на демонстрацию. Я был рад пройтись с Вадимом, но предупредил его, чтобы он не очень-то надеялся. Демонстрация вызвала у Вадима тошнотворное чувство: красных флагов было мало, гораздо больше плакатов с портретами Сталина. К тому же присутствовали свастики и повсюду распространялись антисемитские листовки. Шествие остановилось на Лубянке, Зюганов обратился к демонстрантам со ступенек бывшей штаб-квартиры тайной полиции, внутри которой, за шестьдесят лет до этого, были замучены и расстреляны тысячи старых большевиков. Когда Вадим покинул сцену действия, он дал выход всему своему огорчению и разочарованию: "Теперь вы сами увидели, что сталось с нашим обществом", - повторял он снова и снова. Пока мы шли по улицам Москвы, я пытался смягчить угнетенное состояние Вадима. Демонстрация не представляет всю российскую действительность, доказывал я. За работой и другие силы, которые включают и его собственные труды. Утешить Вадима было нелегко. "Все, что я пишу, никого не интересует в этой стране", - упорствовал он. Мы подошли к небольшому киоску с несколькими столами и стульями рядом с ним. Купили немного содовой и сели попить. Спор продолжился. Внезапно мы заметили, как какой-то мужчина наблюдает за нами. Пока мы удивлялись - кто же это такой, он подошел к Вадиму и тихо сказал: "Я знаю, кто вы; пожалуйста, примите мою благодарность за то, что вы написали; у вас много друзей". Весь обратный путь домой настроение Вадима было эйфорическим.
Подобные смены настроения были свойственны Вадиму. Он был сложным и многогранным человеком, артистом в той же степени, в какой и ученым. Богатство его мысли проистекало из редкого смешения логики и эмоций. Вадим обладал потрясающей способностью впитывать, анализировать и усваивать информацию. Часть секрета той быстроты, с которой он писал, заключалась в том, что он удерживал в уме большинство из того, что читал: архивные документы, книги, статьи из журналов; ему не пришодилось тратить уйму времени на составление, изучение и расположение своих заметок. Несмотря на то, что громадное количество исторических фактов и социологической статистики занимало место в его памяти, там оставалось еще место и для поэзии. С легкостью цитировал он стихи Пушкина, Маяковского и других русских и советских мастеров пера. Красота и страстность его декламаций были не простым продуктом его памяти. Вадим одновременно и понимал и чувствовал душой образы, которым своим голосом он придавал такую чувственность.
Когда Вадим уезжал из Австралии в январе прошлого года, он был полон надежд. В конце его лекции я подарил Вадиму новое издание на английском языке его книги 1937. Принимая книгу, Вадим признался перед аудиторией, что последние шесть лет были самыми счастливыми годами в его жизни. Более того, он пожелал поделиться с аудиторией секретом. Седьмой и последний том его исторического цикла будет посвящен Международному Комитету Четвертого Интернационала, без чьей поддержки и поощрения работа стала бы невозможной. В продолжение следующих нескольких месяцев нам казалось, что Вадим физически держится. В мае он и Галя приехали в Израиль навестить его дочь. По своему возвращению, Вадим внезапно обнаружил, что с трудом может двигать своей левой рукой. Доктора заверили его, что он пережил всего лишь небольшой удар и что для тревог нет никаких оснований. Однако в августе слабость распространилась и на его ноги. Вадим отправился для обследования и лечения в Институт онкологических наук.
Хотя Вадим по телефону успокаивал меня тем, что его состояние стабильно, а доктора ожидают улучшения, я опасался худшего и решил навестить его в сентябре. 11 сентября я прибыл в Москву, посреди растущего хаоса финансового кризиса, который за неделю до этого был вызван обвалом рубля. Сразу же поехал в больницу. Двадцатью годами ранее она без всяких сомнений представляла собой витрину советских научных достижений. Сейчас же она казалась символом социальной катастрофы, охватившей Россию. Гигантская постройка была темной и холодной. В ту пятницу вечером нигде нельзя было найти медицинский персонал. Палата Вадима находилась на восемнадцатом этаже. Все медицинские процедурные были пусты. Только пожилая уборщица склонилась над шваброй. Идя по темным коридорам, я нашел палату Вадима, вошел. Он сидел за маленьким столом, работая. Внешность его сильно изменилась. Галя жила с Вадимом в палате, взяв на себя, по существу, те функции, которые госпиталь, опустошенный социальным кризисом, был неспособен предоставить. Она готовила Вадиму пищу, меняла постельное белье, измеряла кровяное давление и уровень сахара в крови, давала лекарства, мыла его.
Так как было уже поздно и Вадим очень устал, мы договорились перенести нашу беседу на следующий день. Но когда утром в субботу я пришел, то оказалось, что состояние Вадима резко ухудшилось. Он задыхался и, казалось, находился только в полусознательном состоянии. Я ушел из комнаты в поисках врача. Я смог найти доктора, профессора Личиницера, который помог Вадиму организовать первую операцию и наблюдал за его лечением. Сейчас он рассказал мне, что рак дошел до мозга Вадима. В настоящий момент Вадим переживает серьезный кризис. Он мало что мог сделать, за исключением кислородной подпитки для облегчения дыхания Вадима. Правда, профессор Личиницер предложил мне тогда попытаться поговорить с Вадимом. Вадим раскрыл свои глаза, дыхание его стало менее учащенным. В течение часа кризис, казалось, миновал. Вадим сев на своей кровати, спросил меня, как долго я буду находиться в Москве. Я рассказал ему о своих планах. "Ну, так, - ответил Вадим по-русски, - подготовим повестку наших дискуссий". Во-первых, он хотел рассмотреть со мной материал, который он включил в свой седьмой том, особенно тот, который касался убийства Троцкого. Затем Вадим сказал, что намерен продиктовать письмо профессору Герману Веберу из Германии, который выступил в качестве главного редактора сборника очерков, посвященных сталинскому террору и в одном из которых прозвучала неблагоприятная ссылка на работы Роговина. Согласно книге Вебера, анализ террора, сделанный Роговиным, акцентировал слишком большое внимание на влиянии Троцкого. В конце Вадим хотел обсудить, как секции Международного Комитета намереваются включить в свои программные документы концепцию социального равенства. Немногим более часа назад казалось, что Вадим может умереть сегодня же. Теперь же он предлагал повестку дня, которая требовала для обсуждения нескольких дней.
Остаток субботы мы провели, рассматривая, как он и предлагал, материал для его седьмого тома. В воскресенье Вадим продиктовал блестяще аргументированное письмо профессору Веберу, опровергая его критику, нацеленную на работы Вадима. В понедельник мы разговаривали и, как было обычным для нас, спорили по поводу смысла требования социального равенства в рамках современного общества. Далеко за полдень Вадим устал, и мы решили завершить дискуссию. Он был безмерно удовлетворен результатом нашей работы. Возможно ли, - спросил он, - для меня вернуться в Москву снова в ноябре? Я обещал, что приеду. На следующий день, во вторник, я уехал из России. После однодневной остановки в Западной Европе я прилетел назад в Соединенные Штаты. Это было в четверг, когда в Москве наступило раннее утро пятницы. Через 15 минут после того, как я вошел в свой дом после прибытия в Детройт, я получил послание из Москвы - Вадим только что скончался.
Похороны Вадима состоялись на окраине Москвы 21 сентября. Русские средства массовой информации не обратили на его смерть никакого внимания. Отдать дань уважения пришла только относительно малая группа людей. Но те, кто пришли туда, представляли собой все то, что было великим и основополагающим в истории Советского Союза: Юрий Примаков, сын генерала Виталия Примакова, убитого Сталиным в 1937 году; Юрий Смирнов, сын члена Левой оппозиции Владимира Смирнова, убитого Сталиным в 1936 году; Зоря Серебрякова, дочь Леонида Серебрякова из Левой оппозиции, убитого Сталиным в 1937 году; и Валерий Бронштейн, внучатый племянник Льва Давидовича Бронштейна, более известного под именем Троцкий. Они, дожившие до наших дней свидетели событий, которые относятся к числу самых ужасных событий 20-го столетия, смогли по достоинству оценить значение жизни Вадима Захаровича Роговина. А в будущем гораздо большее число людей в России и по всему миру будет читать книги Вадима и воздавать дань его памяти. Великий историк сам перешел в историю.
Примечания:
- Russian Thinkers (London: Penguin Books, 1979), p. 129.
- What Is History? (London: Penguin, 1990), p. 37.
- Сталинский неонэп (обратный пер. с англ.).
- Fourth International, Volume 19, Number 1, fall-Winter 1992, pp. 77-78.