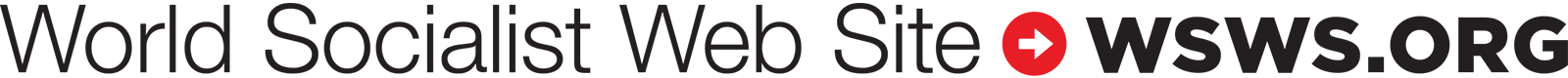лекции прочитанной председателем редколлегии Мирового Социалистического Веб Сайта Дэвидом Нортом в рамках летней школы американской Партии Социалистического Равенства (Socialist Equality Party) и МСВС, которая проводилась с 14 по 20 августа 2005 года в Анн-Арборе, штат Мичиган.
Историческое познание и классовое сознание
Сегодня мы начинаем серию лекций на тему "Марксизм, Октябрьская революция и исторические основы Четвертого Интернационала". В ходе этих лекций мы намерены рассмотреть исторические события, теоретические споры и политические схватки, из которых вырос Четвертый Интернационал. Главное внимание этих лекций будет сфокусировано на первых четырех десятилетиях двадцатого века. В некоторой степени это ограничение вызвано количеством времени, которым мы располагаем. Существует четко очерченная возможность сделать что-либо в течение одной недели, и рассмотрение лишь первых сорока лет прошлого столетия всего за семь дней уже представляет собой довольно амбициозное предприятие. И, тем не менее, есть определенная историческая логика в концентрации нашего внимания на периоде с 1900 до 1940 года.
Ко времени убийства Льва Троцкого в августе 1940 года уже произошли все важные события, которые определили существенные политические черты двадцатого века: начало Первой мировой войны в августе 1914 года; захват политической власти большевистской партией в октябре 1917 года и последующее образование Советского Союза как первого социалистического рабочего государства; превращение в ходе Первой мировой войны Соединенных Штатов в самое могущественное империалистическое государство; поражение Германской революции в 1923 году, бюрократическое вырождение Советского Союза; поражение Левой оппозиции и исключение Троцкого из Коммунистической партии и Третьего Интернационала в 1927 году; предательство Китайской революции в 1926-1927 годах; крах на Уолл-Стрит в 1929 году и начало мировой капиталистической депрессии; приход к власти Гитлера и победа фашизма в Германии в январе 1933 года; Московские процессы в 1936-1938 годов и кампания политического геноцида против социалистической интеллигенции и рабочего класса в СССР; предательство и поражение Испанской революции в 1937-1939 годах под эгидой руководимого сталинистами Народного фронта; начало Второй мировой войны в сентябре 1939 года; а также начало уничтожения европейского еврейства.
Когда мы говорим, что именно в течение этих первых четырех десятилетий были определены существенные политические черты двадцатого века, то мы понимаем это в следующем смысле: все основные политические проблемы, которые стояли перед международным рабочим классом в период после Второй мировой войны, могут быть поняты только в том случае, если они рассматриваются через призму стратегических уроков главных революционных и контрреволюционных событий эпохи до начала Второй мировой войны.
Анализ политики социал-демократических партий после Второй мировой войны требует понимания исторического смысла краха Второго Интернационала в августе 1914 года. Природа Советского Союза, режимов, возникших в Восточной Европе после Второй мировой войны, равно как и маоистского режима, установленного в Китае в октябре 1949 года, — все это может быть понято только на основе изучения Октябрьской революции и длительного процесса вырождения первого рабочего государства. Подобным же образом ответы на проблемы великой волны антиколониальных и антиимпериалистических революций, прокатившихся по Азии, Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке после 1945 года, можно найти лишь на основе тщательного исследования политических и теоретических споров вокруг теории перманентной революции Троцкого, которую он первоначально сформулировал в 1905 году.
Связь между историческим познанием и политическим анализом и ориентацией нашла свое самое глубокое выражение в последнем десятилетии существования Советского Союза. Ко времени прихода к власти Михаила Горбачева в марте 1985 года сталинистский режим находился в отчаянном кризисе. Спад в советской экономике больше невозможно было скрывать. Если быстрый рост цен на нефть в течение 1970-х годов обеспечил кратковременный непредвиденный доход, то затем нефть начала резко дешеветь. Какие меры следовало предпринять Кремлю для предотвращения этого спада? Вопросы политики непосредственно переплелись с оставшимися без ответа вопросами советской истории.
Более 60 лет сталинистский режим вел неослабевающую кампанию исторической фальсификации. Граждане Советского Союза были по большей части несведущи относительно фактов их собственной революционной истории. Работы Троцкого и его единомышленников в течение десятилетий подвергались цензурным преследованиям. Не было ни одной заслуживавшей доверия работы о советской истории. Каждое новое издание официальной Советской энциклопедии ревизовало историю в соответствии с политическими интересами и инструкциями Кремля. В Советском Союзе, как однажды заметил наш умерший товарищ Вадим Роговин, прошлое было так же непредсказуемо, как и будущее!
Для тех фракций внутри бюрократии и привилегированной номенклатуры, которые поддерживали демонтаж национализированной промышленности, возрождение частной собственности и реставрацию капитализма, советский экономический кризис был "доказательством" того, что социализм потерпел провал и что Октябрьская революция была катастрофической исторической ошибкой, из которой неотвратимо вытекали последующие советские трагедии. Экономические рецепты, предложенные этими прорыночными силами, основывались на интерпретации советской истории, согласно которой сталинизм являлся неизбежным результатом Октябрьской революции.
Ответ защитникам капиталистической реставрации не может быть дан просто на основе экономики. Напротив, опровержение прокапиталистических аргументов требует рассмотрения советской истории, показа того, что сталинизм не был ни необходимым, ни неизбежным результатом Октябрьской революции. Следует показать не только то, что альтернатива сталинизму была теоретически мыслимой, но также и то, что такая альтернатива действительно существовала в форме Левой оппозиции, возглавлявшейся Львом Троцким.
То, что я говорю сегодня, является более или менее тем же самым, что я говорил аудитории студентов и преподавателей в Советском Союзе, когда в ноябре 1989 года выступал в московском Историко-архивном институте. Я начал свою лекцию на тему "Будущее социализма" следующим замечанием: "Для того, чтобы обсуждать будущее, необходимо подробно остановиться на значительном куске прошлого. Потому что как можно обсуждать социализм сегодня без рассмотрения многих споров, которые сопровождали социалистическое движение? И, разумеется, когда мы обсуждаем будущее социализма, мы обсуждаем судьбу Октябрьской революции — события, которое имеет мировое значение и которое оказало глубокое воздействие на рабочий класс в каждой стране. Многое из этого прошлого, особенно в Советском Союзе, еще окутано тайной и фальсификациями" [1].
В то время в СССР существовал огромный интерес к историческим вопросам. Моя лекция, которая была организована в течение менее чем 24 часов в ответ на импровизированное приглашение директора Историко-архивного института, собрала аудиторию в несколько сотен человек. Извещение о собрании ограничивалось почти исключительно устным словом. Новость о том, что американский троцкист будет выступать в институте, быстро разнеслась повсюду, и внезапно пришло большое количество людей.
Хотя в короткую эпоху " гласности " для троцкиста не было чем-то совершенно новым излагать свои взгляды публично, лекция американского троцкиста была все же еще чем-то вроде сенсации. Интеллектуальная атмосфера для такой лекции была чрезвычайно благоприятной. Был голод на историческую правду. Как недавно заметил товарищ Фред Вильямс в своей рецензии на жалкую биографию Сталина Роберта Сервиса, советская газета Аргументы и факты, которая выходила маленьким тиражом до эпохи " гласности ", пережила резкий скачок своего тиража до 33 млн. экземпляров благодаря публикациям очерков и долгое время скрывавшихся документов, связанных с советской историей.
Напуганная широко распространенным и растущим интересом к марксизму и троцкизму, бюрократия стремилась использовать этот существенный интеллектуальный процесс исторического прояснения, который мог бы в тенденции стимулировать возрождение социалистического политического сознания, для ускорения своего движения к развалу СССР. Детальное описание механизма, при помощи которого бюрократия довела дело до роспуска СССР — кульминацией сталинистского предательства Октябрьской революции, предвиденного Троцким за более чем полвека до этого, — является предметом, который еще ждет своего тщательного исследования. Тем важнее подчеркнуть, что решающим элементом в роспуске СССР — катастрофические последствия которого для народов бывшего Советского Союза стали к настоящему времени слишком хорошо ясны — было незнание истории. Рабочий класс не сумел вовремя сбросить с себя бремя десятилетий исторической фальсификации, чтобы быть в состоянии ориентировать себя политически, защитить свои независимые социальные интересы и противостоять развалу Советского Союза и реставрации капитализма.
В этой исторической трагедии заключается великий урок. Без достаточного знания исторического опыта, через который прошел рабочий класс, он не может защитить даже свои самые элементарные социальные интересы, не говоря уже о проведении политически сознательной борьбы против капиталистической системы.
Историческое сознание является существенным компонентом классового сознания. Слова Розы Люксембург, написанные в начале 1915 года, менее чем через год после начала Первой мировой войны и капитуляции немецкой Социал-демократической партии перед прусским милитаризмом и империализмом, сегодня столь же уместны, как и в то время:
"Исторический опыт является единственным учителем [рабочего класса]. Его дорога к свободе устлана не только невыразимыми страданиями, но и бесчисленными ошибками. Цель его похода, его окончательное освобождение, всецело зависит от пролетариата, от того, насколько он усвоил уроки своих собственных ошибок. Самокритика, безжалостная, беспощадная критика, которая доходит до самого корня зла, является жизнью и душой пролетарского движения. Катастрофа, в которую мир вверг социалистический пролетариат, является беспримерным несчастьем для человечества. Но социализм проиграет, только если интернациональный пролетариат окажется неспособным измерить глубину этой катастрофы и откажется извлечь уроки, которые она преподала" [2].
Концепция истории, которую мы защищаем и которая отводит познанию и теоретическому усвоению исторического опыта такую критическую и решающую роль в борьбе за освобождение человека, непримиримо враждебна по отношению ко всем преобладающим течениям буржуазной мысли. Политический, экономический и социальный упадок буржуазного общества отражается, если не выражается прямо, в его интеллектуальной деградации. В период политической реакции, как однажды заметил Троцкий, невежество показывает свои зубы.
Специфической и своеобразной формой невежества, защищаемого сегодня самыми искусными и циничными представителями академических кругов буржуазной мысли, постмодернистами, является незнание истории и презрение к ее изучению. Крайняя форма неприятия постмодернистами ценности исторического знания и признания его центральной роли всеми прогрессивными течениями общественной мысли неразрывно связано с другим существенным элементом постмодернистских теоретических концепций — отречением и явным отказом от поиска объективной истины как существенной и главной цели философского исследования.
Что, в таком случае, представляет собой постмодернизм? Позвольте процитировать в качестве объяснения фрагмент, написанный известным академическим защитником этой тенденции, профессором Кейтом Дженкинсом (Keith Jenkins):
"Сегодня мы живем в общем состоянии постсовременности. Относительно этого у нас нет альтернативы. Ибо постсовременность не является "идеологией" или положением, с которым мы можем предпочесть согласиться или нет; постсовременность является именно нашим состоянием: она является нашей судьбой. И это состояние, можно поспорить, вызвано общей неудачей — общей неудачей, которая сегодня может быть очень ясно понята, когда двадцатый век покрылся пылью — того опыта общественной жизни, который мы называем современностью. Речь идет об общем и измеряемом своими собственными критериями провале попытки — начиная с восемнадцатого века в Европе — достичь посредством обращения к разуму, науке и технологии такого уровня личного и общественного благосостояния, который, узаконивая все более широкое освобождение граждан/субъектов в рамках общественных структур, можно было бы охарактеризовать как попытку построить "общество прав человека"".
"... Сегодня не существует — и даже никогда не было — каких-либо "реальных" основ, способных поддержать эксперимент модерна" [3].
Позвольте мне, используя язык постмодернистов, подвергнуть этот фрагмент "деконструкции". В течение более двух столетий, начиная с восемнадцатого века, существовали люди, вдохновляемые наукой и философией эпохи Просвещения, которые верили в прогресс, в возможность человеческого совершенствования и которые стремились к революционному преобразованию общества на основе того, что они считали научным пониманием объективных законов истории.
Такие люди верили в Историю (с большой буквы) как в закономерный процесс, определяемый социально-экономическими силами, существующими независимо от субъективного сознания индивидов, но которые индивиды могут обнаружить, понять и использовать в интересах человеческого прогресса.
Однако все подобные концепции, заявляют постмодернисты, оказались наивными иллюзиями. Мы теперь хорошо знаем: нет Истории (с большой буквы). Не существует даже истории с маленькой буквы, понимаемой просто как объективный процесс. Есть просто субъективные изложения фактов ("нарративы") или рассуждения ("дискурсы") с меняющейся лексикой, используемой для достижения той или иной субъективно-определяемой полезной цели, независимо от того, какова эта цель.
С такой точки зрения сама идея извлечения "уроков" из "истории" является ложным замыслом. В действительности нет ничего для исследования и ничего для усвоения. Как утверждает Дженкинс: "Теперь мы просто должны понять, что живем посреди общественных образований, которые не имеют узаконенных сущностных, теоретико-познавательных или нравственных основ для нашей веры, выходящих за рамки обращенного к самому себе (риторического) диалога... Следовательно, мы признаем сегодня, что никогда не было и никогда не будет такой вещи как прошлое, выступающее выражением некоей сущности" [4].
В переводе на понятный язык, то, что говорит Дженкинс, заключается в следующем: 1) деятельность человеческих обществ, в прошлом или в настоящем, не может быть понята в категориях объективных законов, которые открыты или могут быть открытыми; и 2) не существует объективной основы, лежащей под тем, что люди могут думать, говорить или совершать в рамках общества, в котором они живут. Люди, называющие себя историками, могут выдвигать ту или иную интерпретацию прошлого, но замена одной интерпретации на другую не выражает продвижения к чему-то объективно более истинному, чем то, что было написано ранее — ибо не существует объективной истины, чтобы более близко подходить к ней. Это просто замена одного способа говорить о прошлом другим способом говорить о прошлом, — что зависит от причин, соответствующих субъективно-осознанным целям историка.
Сторонники этой точки зрения заявляют о кончине современности, но отказываются исследовать весь комплекс исторических и политических оценок, которые являются предпосылкой их умозаключений. Разумеется, они разделяют политические позиции, которые связаны с их теоретическими взглядами и находят в них свое выражение. Профессор Хейден Уайт (Hayden White), один из ведущих представителей постмодернизма, ясно заявил: "Теперь я выступаю против революций, начинаются ли они "сверху" или "снизу" общественной иерархии и направляются ли они вождями, которые верят, что обладают наукой об обществе и истории или же прославляют политическую "стихийность"" [5].
Законность данной философской концепции не опровергается автоматически политикой индивида, который ее выдвигает. Но антимарксистская и антисоциалистическая траектория постмодернизма настолько очевидна, что фактически невозможно отделить его теоретические идеи от его политической перспективы.
Эта связь находит свое наиболее явное выражение в работах французского философа Жан-Франсуа Лиотара (Jean-Francois Lyotard) и американского философа Ричарда Рорти (Richard Rorty). Я начну с первого. Лиотар был непосредственно вовлечен в социалистическую политику. В 1954 году он вступил в группу " Социализм или варварство " (Socialisme ou Barbarie) — организацию, которая возникла в 1949 году после раскола PCI (партии Интернациональных Коммунистов), французской секции Четвертого Интернационала. Основой раскола был отказ от определения Троцким СССР как переродившегося рабочего государства. Группа " Социализм или варварство ", ведущими теоретиками которой были Корнелий Касториадис (Cornelius Castoriadis) и Клод Лефор (Claude Lefort), развивала точку зрения, согласно которой бюрократия была не паразитическим социальным слоем, а новым эксплуататорским общественным классом.
Лиотар оставался в этой группе до середины 1960-х годов, к этому времени он совершенно порвал с марксизмом.
Лиотар наиболее близко ассоциируется с отрицанием "великих описаний" ("нарративов") человеческой эмансипации, обоснованность которых, заявляет он, опровергнута событиями двадцатого века. Он доказывает, что "сама основа каждого великого нарратива эмансипации была, так сказать, опорочена в течение последних пятидесяти лет. Все действительное разумно, все разумное действительно: "Аушвиц" [Освенцим] опровергает спекулятивную доктрину. Это преступление, которое было действительным, но не было разумным. Все пролетарское является коммунистическим, все коммунистическое является пролетарским: "Берлин 1953 года, Будапешт 1956 года, Чехословакия 1968 года, Польша 1980 года" (упоминая самые очевидные примеры) опровергают доктрину исторического материализма: рабочие восстали против Партии. Все демократическое существует посредством и для народа, а не наоборот: "Май 1968 года" опровергает доктрину парламентарного либерализма. Предоставленные самим себе, законы спроса и предложения произведут всеобщее процветание, и наоборот: "кризисы 1911 и 1929 годов" опровергают доктрину экономического либерализма" [6].
Тот аргумент, что Аушвиц опровергает все попытки научного понимания истории, никоим образом не был оригинальным для Лиотара. Подобная идея образовала основу написанных после Второй мировой войны работ Адорно и Хоркхаймера, отцов Франкфуртской школы. Заявление Лиотара, что Аушвиц был как действительным, так и неразумным, является упрощенным искажением диалектической революционной концепции Гегеля. Мнимое опровержение Лиотара основывается на вульгарном отождествлении действительного как философского понятия с тем, что существует. Но, как объяснял Энгельс, действительность по Гегелю "вовсе не представляет собой такого атрибута, который присущ данному общественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все времена" [7]. То, что существует, может находиться в столь остром конфликте с объективным развитием человеческого общества, что будет в социальном и историческом смысле неразумным и поэтому недействительным, нежизненным и обреченным. В этом глубоком смысле германский империализм — из которого выросли нацизм и Аушвиц — показал правоту философского суждения Гегеля.
Восстания рабочего класса против сталинизма не опровергали исторического материализма. Напротив, они опровергали политику группы " Социализм или варварство ", которую поддерживал Лиотар. Троцкий на основе историко-материалистического метода анализа предсказал такие восстания. Группа " Социализм или варварство " приписала сталинистским бюрократиям такую степень власти и устойчивости, какой они, будучи паразитической кастой, не обладали. Более того, Лиотар предполагает тождество между коммунизмом как революционным движением и коммунистическими партиями, которые фактически являлись в тот момент политическими организациями сталинистских бюрократий.
Что касается опровержения экономического и парламентарного либерализма, то это было осуществлено марксистами задолго до событий, на которые ссылается Лиотар. Его ссылка на май 1968 года как на крах парламентарного либерализма особенно гротескна. А как насчет гражданской войны в Испании? Краха Веймарской республики? Предательства французского Народного фронта? Все эти события произошли за более чем 30 лет до событий мая-июня 1968 года. То, что Лиотар подает в качестве великих философских открытий, является не более чем выражением пессимизма и цинизма разочарованного экс-левого (или движущегося направо) академического мелкого буржуа.
Ричард Рорти не стыдится связи своего отрицания концепции объективной истины с опровержением революционной социалистической политики. Согласно Рорти, развал сталинистских режимов в Восточной Европе и распад Советского Союза дает левым интеллектуалам давно ожидаемую возможность отречься, раз и навсегда, от любого сорта интеллектуального (или даже эмоционального) обязательства по отношению к революционной перспективе. В своем очерке "Конец ленинизма, Гавел и социальная надежда" Рорти заявил:
"...Я надеюсь, что интеллектуалы используют смерть ленинизма как случай для освобождения себя от идеи, согласно которой они знают или должны знать нечто о глубинных силах, которые определяют судьбу человеческих сообществ".
"Мы, интеллектуалы, предъявляли претензии на такое познание с тех пор, как занялись своим делом. Когда-то мы претендовали на знание того, что справедливость не может воцариться, пока короли не станут философами или философы — королями; мы претендовали на знание этого на основе схватывания формы и движения Истории. Я хотел бы надеяться, что мы достигли времени, когда наконец-то можем освободиться от убеждения, общего Платону и Марксу, что должны существовать некие общие теоретические способы, которые позволяют выяснить, как положить конец несправедливости, и которые противоположны узким экспериментальным путям" [8].
Что можно вывести из этого теоретического отречения? Рорти вносит свои предложения по переориентации "левой" политики:
"... Я думаю, пришло время выбросить термины "капитализм" и "социализм" из политического словаря левых. Было бы хорошей мыслью перестать говорить об "антикапиталистической борьбе" и вместо этого использовать что-нибудь банальное и нетеоретическое — что-нибудь вроде "борьба против устранимой человеческой бедности". В более общем плане, я надеюсь, что мы можем опростить весь словарь левой фразеологии. Я полагаю, что мы начинаем говорить о жадности и эгоизме, а не о буржуазной идеологии, о нищенских зарплатах и увольнениях, а не о превращении труда в товар, и о различных расходах на ученика в школах и различном доступе к здравоохранению, а не о разделении общества на классы" [9].
И это называется философией? То, что Рорти называет опрощением, было бы лучше охарактеризовать как интеллектуальную и политическую кастрацию. Он предлагает исключить из обсуждения результат более чем 200 лет общественной мысли. В основе этого предложения лежит концепция, согласно которой развитие мысли само является чисто произвольным и, в общем, субъективным процессом. Слова, теоретические понятия, логические категории и философские системы являются просто словесными конструкциями, прагматично вызываемыми в воображении в интересах разнообразных субъективных целей. Заявление о том, что развитие теоретической мысли является объективным процессом, выражающим развивающееся, углубляющееся и все более сложное и точное понимание природы и общества, является для Рорти не более чем гегельяно-марксистской старомодностью. Как он утверждает в другом месте: "Не существует деятельности, называемой "знание" и имеющей свою собственную природу, которая должна быть раскрыта, и в обнаружении которой столь искусны естествоиспытатели. Существует просто процесс обоснования мнений перед слушателями" [10].
Итак, такие термины как "капитализм", "рабочий класс", "социалистический", "прибавочная стоимость", "наемный труд", "эксплуатация" и "империализм" не являются понятиями, которые выражают и обозначают объективную реальность. Их следует заменить другими, предположительно менее эмоциональными, словами — которые большинство из нас, хотя и не Рорти, назвало бы "эвфемизмами".
Рорти, как я уже цитировал, предлагает, чтобы мы говорили о "борьбе против устранимой человеческой бедности". Позвольте нам на мгновение принять это блестящее предложение. Однако мы почти немедленно сталкиваемся с проблемой. Как должны мы определять, какая форма и степень человеческой бедности является устранимой? На какой основе мы должны заявлять, что бедность устранима или даже что ее следует устранять? Какой ответ следует дать тем, кто доказывает, что бедность есть жребий человека, следствие его грехопадения? И даже если мы как-нибудь избегнем аргументов теологов и представим бедность в светских понятиях, то есть как общественную проблему, мы все еще сталкиваемся с проблемой анализа причин бедности.
Программа отмены "устранимой человеческой бедности" была бы вынуждена проанализировать экономическую структуру общества. В той степени, в какой подобное исследование проводилось бы честно, участники общественной кампании против "устранимой человеческой бедности" натолкнулись бы на проблемы "владения", "собственности", "прибыли" и "класса". Они могли бы изобрести новые слова для характеристики этих социальных явлений, но — с разрешения Рорти или без оного — эти социальные явления тем не менее существовали бы.
Теоретические концепции Рорти в большом количестве изобилуют самыми вопиющими несообразностями и противоречиями. Он категорически настаивает на том, что не существует "истины", которую можно было бы открыть и познать. По-видимому, он считает свое открытие отсутствия истины "истиной", так как оно образует основу его философии. Однако если попросить Рорти объяснить это явное противоречие, то он избежит этого, заявив, что он не подчинится терминам вопроса, который коренится в традиционном философском рассуждении, восходящем к Платону. Истина, утверждает Рорти, является одним из тех старых вопросов, которые сегодня вышли из употребления и о которых просто нельзя вести интересную философскую дискуссию. Когда встает этот вопрос, Рорти, как он довольно цинично заметил, "просто хочет сменить тему" [11].
Ключ к пониманию философских концепций Рорти следует искать в его политической позиции. Хотя Рорти стремился по разным случаям умалить связь между философией и политикой, было бы трудно найти другого современного философа, теоретические концепции которого столь непосредственно встраивались бы в политическую позицию — то есть в его опровержение и противодействие марксистской революционной политике. Рорти не делает попытки систематического анализа и опровержения марксизма. Прав Маркс или нет, для Рорти это не вопрос. Социалистический проект (который Рорти по большей части отождествляет с судьбой Советского Союза) провалился, и, по мнению Рорти, существует малая надежда на то, что он будет успешным в будущем. Из обломков крушения старых марксистских левых ничто не может быть спасено. Вместо того, чтобы участвовать в новых теоретических схватках относительно истории, принципов, программ и, что хуже всего, объективной истины, лучше отступить к намного более скромной политике минимального общего знаменателя. Вот что в действительности представляет собой философия Рорти, а, на самом деле, и большинство американских академических постмодернистских рассуждений.
Для Рорти (а также, как мы увидим, для столь многих других) "события 1989 года убедили тех, кто пытался держаться за марксизм, что нам нужен способ удержания нашего времени в мысли и план того, как сделать будущее лучше, чем настоящее, без ссылок на капитализм, буржуазный образ жизни, буржуазную идеологию и рабочий класс" [12]. Пришло время, доказывает он, "перестать использовать "Историю" как имя и объект, вокруг которого вращаются наши фантазии относительно уменьшения бедности. Мы должны согласиться с точкой зрения Фукуямы (в его знаменитом очерке Конец истории), что если вы все еще тоскуете по тотальной революции, по Радикально Иному во всемирно-историческом масштабе, то события 1989 года показывают, что вы потерпели неудачу" [13].
Этот сорт циничной и неуклюжей иронии выражает прострацию и деморализацию, которые охватили среду левых ученых и радикалов перед лицом политической реакции, последовавшей вслед за развалом сталинистских режимов. Вместо попытки серьезного анализа исторических, политических и социальных корней распада сталинистских режимов, эти слои быстро приспособились к преобладающей атмосфере реакции, путаницы и пессимизма.
Идеологические последствия 1989 года
Объясняя политическую капитуляцию перед волной сталинистской и фашистской реакции в течение 1930-х годов, Троцкий отмечал, что сила не только завоевывает, она также и убеждает. Внезапный развал сталинистских режимов, который оказался полным сюрпризом для столь многих радикалов и склонных к левизне интеллектуалов, оставил их теоретически, политически и даже морально безоружными перед бешеным натиском буржуазного и империалистического триумфализма, который последовал после демонтажа Берлинской стены. Несметное число оттенков мелкобуржуазной политики были совершено сбиты с толку и деморализованы внезапным исчезновением бюрократических режимов в Восточной Европе. Контуженные в политическом смысле мелкобуржуазные ученые заявили, что кончина этих бюрократических режимов выражала собой провал марксизма.
Помимо трусости, в заявлениях о том, что марксизм был дискредитирован роспуском СССР, была весьма существенная степень интеллектуальной бесчестности. Профессор Брайан Тёрнер (Bryan Turner) писал, например, что "авторитету марксистской теории был брошен жесткий вызов, не в последнюю очередь из-за неспособности марксизма предвосхитить полный крах восточно-европейского коммунизма и Советского Союза [14]. Такие заявления не могут быть объяснены простым невежеством. Ученые левой ориентации, которые писали подобные заявления, не являются совершенно неосведомленными по части троцкистского анализа природы сталинистского режима. Этот анализ предупреждал, что политика бюрократии в конце концов приведет к развалу Советского Союза.
Международный Комитет может представить бесчисленное число заявлений, в которых он предвидел катастрофическую траекторию сталинизма. До кончины СССР мелкобуржуазные радикалы считали эти предупреждения ничем иным как сектантским безумием. После развала Советского Союза они пришли к выводу, что легче обвинить марксизм в провале "реально существующего социализма", чем провести критическую проверку своего собственного политического мировоззрения. Раздраженные и разочарованные, они взирают сегодня на свои политические, интеллектуальные и эмоциональные обязательства перед социализмом как на плохое вложение капитала, в котором они глубоко раскаиваются. Их точка зрения была суммирована историком Эриком Хобсбаумом (Eric Hobsbawm), многолетним членом британской Коммунистической партии, который в течение десятилетий служил апологетом сталинизма. Он написал в своей автобиографии:
"Сегодня коммунизм мертв: СССР и большинство государств и обществ, построенных по его модели, дети Октябрьской революции, которая вдохновляла нас, разрушились настолько капитально, оставляя за собой ландшафт материальных и моральных руин, что должно быть очевидно — крах был заложен в этом предприятии с самого начала" [15].
Заявление Хобсбаума о том, что Октябрьская революция была обреченным предприятием, является капитуляцией перед аргументами бессовестных правых противников социализма. Идеологи буржуазной реакции утверждают, что крах СССР является неопровержимым доказательством того, что социализм — это безумная утопическая мечта.
Роберт Конквест (Robert Conquest) в своих инквизиторских Размышлениях об опустошенном веке (Reflections on a Ravaged Century) осуждает "архаическую идею, согласно которой утопия может быть воплощена на земле" и развенчивает "предложение радикального разрешения всех человеческих проблем" [16]. Польско-американский историк Анджей Валицкий (Andrzej Walicki) заявил, что "судьба коммунизма во всемирном масштабе показывает..., что сама эта мечта была внутренне нереализуема. Следовательно, огромная энергия, потраченная на ее осуществление, была обречена на то, чтобы быть растраченной впустую" [17]. Недавно умерший американский историк Мартин Малиа (Martin Malia) детально разрабатывал эту тему в своей опубликованной в 1994 году книге Советская трагедия (The Soviet Tragedy), в которой он заявил, что "... провал всего социализма проистекает не из-за того, что он связан первоначально с неверным местом, Россией, но из самой социалистической идеи. И причина этого провала заключается в том, что социализм как полный некапитализм является совершенно невозможным" [18].
Объяснение того, почему социализм "совершенно невозможен", следует искать в книге ведущего представителя американских антимарксистских историков времен "холодной войны" Ричарда Пайпса (Richard Pipes) из Гарвардского университета. В книге под названием Собственность и свобода (Property and Freedom) Пайпс устанавливает глубокий зоологический фундамент для своей теории собственности:
"Одним из постоянных качеств человеческой природы, не поддающимся законодательному и педагогическому манипулированию, является стяжательство... Стяжательство является общим для всех живых существ, будучи универсальным в среде животных и детей, также как и взрослых на всяком уровне цивилизации, причина которого не является надлежащим предметом для морализирования. На самом элементарном уровне оно является выражением инстинкта выживания. Но далее этого оно устанавливает основную особенность человеческой личности, для которой успехи и приобретения являются средствами самореализации. И в виду того, что самореализация является сущностью свободы, свобода не может процветать там, где собственность и неравенство, которому она дает рост, насильственно уничтожаются" [19].
Здесь не место рассматривать теорию собственности Пайпса с той тщательностью, какой она заслуживает. Позвольте мне отметить, что формы собственности, так же как и их социальное и юридическое осмысление претерпели процесс исторического развития. Исключительное отождествление собственности с частной собственностью начинается только с XVII века. В более ранние исторические периоды собственность, говоря вообще, определялась в намного более широком и даже в общинном смысле. Пайпс использует определение собственности, которое стало применяться только тогда, когда в экономической жизни стали преобладать рыночные отношения. С этого времени собственность стала пониматься главным образом как право индивида "исключать других от возможности какого-либо использования или обладания вещью" [20].
Эта форма собственности, выдающаяся роль которой относительно недавно проявилась среди людей, является — я думаю, здесь нет риска ошибиться — более или менее неизвестной в остальном животном царстве! В любом случае, для тех из вас, кто беспокоится о том, что станет с вашим добром, домами, машинами и другими ценными предметами личной собственности при социализме, позвольте мне заверить вас, что форма собственности, которую социализм стремится отменить, это частная собственность на средства производства.
Одной положительной чертой самых последних работ профессора Пайпса — которые написаны после распада Советского Союза — является то, что связь между его прежними тенденциозными книгами о советской истории и его правой политической программой сделалась абсолютно явной. Для Пайпса Октябрьская революция и создание Советского Союза представляли наступление на прерогативы владения и собственности. Они были высшей точкой всемирной и массовой общественной кампании за социальное равенство, ужасным продуктом идеалов Просвещения. Однако эта глава истории сегодня закончилась.
"Права собственности, — заявляет Пайпс, — должны быть восстановлены на их надлежащем месте в системе ценностей вместо того, чтобы быть принесенными в жертву недостижимому идеалу социального равенства и всеохватного экономического обеспечения". Какое восстановление прав собственности требует Пайпс? "Вся идея государства всеобщего благосостояния, как она развилась во второй половине двадцатого века, является несовместимой с индивидуальной свободой... Отменяя благосостояние с его различными "компенсациями" и ложными "правами" и возвращая ответственность за социальную помощь в руки семьи или частной благотворительности, которые занимались этим до двадцатого века, можно идти долгим путем для разрешения этого затруднения" [21].
Для господствующих элит конец Советского Союза видится началом глобального восстановления капиталистического ancien regime (старого режима), восстановления общественного порядка, при котором все ограничения на права собственности, эксплуатацию труда и накопление личного богатства сняты. Не является случайным совпадением то, что именно в течение почти 15 лет, прошедших после распада Советского Союза, произошел ошеломляющий рост социального неравенства и степени концентрации богатства в руках богатейшего одного процента (и особенно 10 процентов) населения мира. Всемирное наступление на марксизм и социализм являлось, в сущности, идеологическим отражением этого реакционного и исторически попятного социального процесса.
Однако этот процесс находит выражение не только в антимарксистских филиппиках крайне правых. Общее интеллектуальное разложение буржуазного общества проявляется также в деморализованной капитуляции остатков мелкобуржуазных левых перед идеологическим наступлением крайне правых. Книжные магазины мира в большом количестве предлагают книги, написанные скорбными экс-радикалами, заявляющими всем и каждому о крушении своих надежд и грёз. Кажется, что они получают некое извращенное удовлетворение, провозглашая свое отчаяние, обескураженность и бессилие перед всеми, кто станет их слушать. Разумеется, они не считают себя ответственными за свою неудачу. Нет, они стали жертвами марксизма, который обещал им социалистическую революцию, а затем не смог ее осуществить.
Их покаянные воспоминания не только чувствительны, но также и до некоторой степени смешны. Пытаясь придать своей личной катастрофе некий род всемирно-исторического значения, они выставляют себя на посмешище. Например, профессор Рональд Аронсон (Ronald Aronson) начинает свою книгу После марксизма (After Marxism) следующими незабываемыми словами:
"Марксизму пришел конец, и мы предоставлены самим себе. Еще совсем недавно для столь многих левых быть предоставленным самим себе было немыслимым несчастьем — полной потерей основ, сиротской долей... В качестве последнего поколения марксизма нам была назначена историей незавидная участь похоронить его" [22].
Темой, общей для столь многих из этих предполагаемых владельцев похоронных бюро, является то, что распад Советского Союза разрушил не только их политическое, но также и их эмоциональное равновесие. Какой бы ни была их политическая критика кремлевской бюрократии, они никогда не представляли себе, что ее политика может привести к разрушению СССС — то есть они никогда не принимали анализа Троцким сталинизма как силы контрреволюции. Так, Аронсон признается:
"Сама неподвижность и тяжеловесность Советского Союза считалась чем-то положительным в нашем коллективном психическом пространстве, позволяя нам поддерживать в живых надежду в то, что успешный социализм еще может возникнуть. Это обеспечивало фон, на котором можно было обдумывать и обсуждать альтернативы, в том числе — до известной степени — надежду на то, что другие версии марксизма остались жизнеспособными. Но сегодня этого больше нет. Как бы мы ни пытались спасти теоретическую возможность коммунизма, невзирая на его кончину, великий всемирно-исторический проект борьбы и трансформации, отождествляемый с именем Карла Маркса, по-видимому, закончился. И, как хорошо знают постмодернисты, вся всемирная точка зрения потерпела крушение вместе с марксизмом. Не только марксисты и социалисты, но и другие радикалы, также как и те, кто считает себя прогрессивными деятелями и либералами, потеряли чувство направления" [23].
Ненамеренно Аронсон разоблачил маленький грязный секрет столь многих политических радикальных политических действий — глубину их зависимости от сталинизма — и, следует добавить, от других реформистских рабочих бюрократий. Эта зависимость имела конкретную общественную основу в классовых и политических отношениях эпохи после Второй мировой войны. В стремлении компенсировать политическое и социальное недовольство своей классовой среды, значительные слои мелкой буржуазии рассчитывали на ресурсы, которыми распоряжались могущественные рабочие бюрократии. Будучи частью этих бюрократий или находясь в союзе с ними, раздраженные радикалы из среднего класса могли грозить кулаками господствующему классу и добиваться уступок. Крах советского режима, за которым почти немедленно последовал распад реформистских рабочих организаций по всему миру, лишил радикалов бюрократического покровительства, на которое они опирались. Внезапно эти несчастны Вилли Ломансы [герой пьесы Артура Миллера Смерть коммивояжера (1947)] от радикальной политики оказались предоставлены самим себе.
Среди этих течений считается более или менее само собой разумеющимся, что историческая роль, отведенная классическим марксизмом рабочему классу, была роковой ошибкой. Самое большее, что они могут принять, это то, что когда-то в прошлом, в какой-то момент было время, когда эта точка зрения могла быть оправдана. Но определенно не сегодня. Аронсон заявляет: "В действительности существует множество свидетельств в поддержку аргумента, согласно которому марксистскому проекту пришел конец из-за структурных трансформаций в капиталистическом строе и даже в самом рабочем классе. Центральное положение главной марксистской категории, труда, было поставлено под вопрос самой эволюцией капитализма, также как и понятие класса" [24].
Это пишется в то время, когда эксплуатация рабочего класса осуществляется в мировом масштабе на таком уровне, который ни Маркс, ни Энгельс не могли представить. Процесс выжимания прибавочной стоимости из человеческой рабочей силы был в огромной степени усилен революцией в информационных и коммуникационных технологиях. Труд, хотя и не является центральной категорией в учении о бытии мелкобуржуазного радикализма, продолжает играть решающую роль в капиталистическом способе производства. Отсюда безжалостное и все более грубое стремление к снижению заработной платы, сокращению и ликвидации социальных пособий и рационализации производственных процессов — при этом с жестокостью, невиданной в истории.
"Нет более слепых, чем те, кто не желает видеть". Если не существует действительной общественной силы, способной вести революционную борьбу против капитализма, то как можно даже теоретически увидеть альтернативу существующему порядку? Эта дилемма лежит в основе другой формы современного политического пессимизма — неоутопизма. Стремясь оживить домарксистские и утопические стадии социалистической мысли, неоутописты оплакивают и осуждают усилия Маркса и Энгельса, цель которых была в том, чтобы поставить социализм на научную основу.
Для неоутопистов классический марксизм воспринял слишком многое из того интереса, какое проявлял девятнадцатый век к открытию объективных сил. Эта точка зрения лежала в основе внимания социалистического движения по отношению к рабочему классу и его воспитанию. Марксисты, заявляют неоутописты, преувеличенно и неоправданно полагались на объективную силу капиталистических противоречий, не говоря уже о революционных возможностях рабочего класса. Более того, они не смогли оценить по достоинству мощь и властную силу иррационального.
Выходом из этой дилеммы, заявляют неоутописты, является принятие и пропаганда "мифов", которые могут вдохновить и возбудить. Соответствуют ли или нет такие мифы объективной действительности, не имеет реального значения. Ведущий представитель неоутопического мифологизирования, Винсент Геогеган (Vincent Geoghegan), критикует Маркса и Энгельса за их "неспособность развивать психологию. Они оставили очень бедное наследие относительно сложностей человеческой мотивации, и большинство их последователей ощущали малую потребность преодолеть этот недостаток" [25]. В отличие от социалистов, жалуется Геогеган, именно крайне правые, особенно нацисты, понимали силу мифов и их образов. "Именно национал-социалисты сумели создать видение тысячелетнего рейха из романтических идей тевтонских рыцарей, саксонских королей и мистических побуждений "Крови". Все левые слишком часто отказываются от этой сферы, бормоча о реакционном обращении к реакции" [26].
Этот позорный призыв к иррационализму с его глубоко реакционными политическими выводами проистекает — с некоторой примесью извращенной логики — из деморализованного воззрения, согласно которому не существует объективной основы для социалистической революции.
Чего нельзя найти в любом из деморализованных сетований о провале марксизма, социализма и, конечно же, рабочего класса, так это сколько-нибудь конкретного исследования истории двадцатого века, какой-нибудь попытки раскрыть, основываясь на точном изучении событий, партий и программ, причины побед и поражений революционного движения в двадцатом веке. В своем издании за 2000 год, которое было посвящено теме утопизма, Socialist Register сообщил нам, что необходимо добавить "новый концептуальный слой к марксизму, измерение, прежде упускавшееся или неразвитое" [27]. Это последнее дело, которое необходимо. Напротив, то, что требуется, так это применение метода диалектического и исторического материализма для изучения и анализа двадцатого столетия.
Потерпел ли марксизм неудачу?
Международный Комитет Четвертого Интернационала никогда не стремился отрицать того, что распад Советского Союза означал большое поражение рабочего класса. Но это событие — результат десятилетий сталинистских предательств — не сделало недействительным ни марксистский метод, ни перспективу социализма. Марксистская оппозиция сталинистской бюрократии возникла в 1923 году с образованием Левой оппозиции. Решение Троцкого учредить Четвертый Интернационал вместе с его призывом к политической революции в Советском Союзе основывалось на его выводе о том, что защита социальных завоеваний Октябрьской революции и само выживание СССР как рабочего государства зависят от насильственного низвержения бюрократии.
Международный Комитет появился в 1953 году в результате борьбы в Четвертом Интернационале против течения, возглавляемого Эрнестом Манделем и Мишелем Пабло. Это течение пыталось доказать, что советская бюрократия после смерти Сталина осуществляет процесс политической самореформы, постепенного возвращения к принципам марксизма и большевизма, вследствие чего призыв Троцкого к политической революции утрачивает свою силу.
Вся история Четвертого Интернационала и Международного Комитета свидетельствует о политической проницательности анализа сталинизма, развитого на основе марксистского метода. Никто не показал нам, как и каким образом марксизм оказался опровергнут предательствами и преступлениями сталинистской бюрократии. Один представитель левых академических кругов говорил нам, что "утверждать, что развал организованного коммунизма как политической силы и уничтожение государственного социализма как формы общества не легло грузом на интеллектуальное доверие к марксизму, — все равно что утверждать, что обнаружение останков Христа на израильском кладбище, отречение папы и кончина христианского мира не имеют отношения к интеллектуальной связности христианской теологии" [28].
С точки зрения марксистских оппонентов сталинизма — это очень плохо выбранное сравнение, поскольку троцкисты не рассматривали Кремль в качестве Ватикана социалистического движения. Доктрина непогрешимости Сталина, если мне не изменяет память, никогда не принималась Четвертым Интернационалом — хотя этого нельзя сказать о многих левых мелкобуржуазных и радикальных противниках троцкистского движения.
Трудно удовлетворить требованиям скептиков. Даже если марксизм не несет ответственности за преступления сталинизма, спрашивают подобные люди, разве роспуск Советского Союза не свидетельствует о провале революционной социалистической программы? Что подводит этот вопрос, так это отсутствие: 1) широкой исторической перспективы, 2) знания противоречий и достижений советского общества и 3) теоретически обоснованного понимания международного политического контекста, в котором развертывалась Русская революция.
Сама Русская революция являлась всего лишь одним из эпизодов перехода от капитализма к социализму. Какие прецеденты находятся в нашем распоряжении, которые могли бы служить подходящими временными рамками для изучения такого обширного исторического процесса? Социально-политические перевороты, которые сопровождали переход от аграрно-феодальной формы общественной организации к индустриально-капиталистическому обществу, охватывали несколько столетий. Хотя динамика современного мира — с его чрезвычайным уровнем экономических, технологических и общественных взаимосвязей — исключает такой продолжительный промежуток времени в переходе от капитализма к социализму, анализ исторических процессов, состоящих из самых фундаментальных, сложных и долгосрочных общественно-экономических преобразований, требует временных рамок, существенно более широких, чем те, которые используются для изучения обыденных событий.
И все же продолжительность существования СССР не является малозначимой величиной. Когда большевики захватили власть в 1917 году, немногие наблюдатели за пределами России ожидали, что новый режим протянет хотя бы один месяц. Государство, вышедшее из Октябрьской революции, просуществовало 74 года, почти три четверти века. В течение этого периода режим претерпел ужасное политическое вырождение. Однако это вырождение, достигшее своей высшей точки в факте роспуска Советского Союза Горбачевым и Ельциным в декабре 1991 года, не означало, что захват власти Лениным и Троцким был обреченным и бесполезным проектом.
Выведение последней главы советской истории прямо и без необходимых опосредствующих звеньев из большевистского захвата власти является крайним примером логической ошибки post hoc ergo propter hoc ("после этого, значит, по причине этого"). Объективное и честное исследование истории СССР не допускает такого поверхностного объединения этих событий. Исход советской истории не был предопределен. Как мы объясним в течение этой недели, развитие Советского Союза могло бы принять иное и намного менее трагическое направление. Хотя объективное давление — вытекающее из исторического наследства российской отсталости и факта империалистического окружения изолированного рабочего государства — играло огромную роль в вырождении советского режима, факторы субъективного характера — то есть ошибки и преступления его политического руководства — внесли значительный вклад в конечное крушение СССР.
Кончина Советского Союза, однако, не уменьшила исторической значимости мощной драмы Русской революции и того, что за ней последовало. Несомненно, это было величайшее событие двадцатого века и одно из самых великих событий мировой истории. Наша оппозиция сталинизму нисколько не становится меньше оттого, что мы признаем колоссальные социальные достижения Советского Союза. Несмотря на ошибочное руководство и преступления бюрократического режима, Октябрьская революция высвободила необыкновенные по своей глубине творческие и глубоко прогрессивные тенденции в экономической и социальной жизни советского народа.
Огромная и отсталая Россия прошла вследствие революции через процесс экономической, социальной и культурной трансформации, невиданной в человеческой истории. Советский Союз не был, подчеркиваем мы, социалистическим обществом. Степень планирования оставалась на рудиментарном уровне. Программа построения социализма в одной стране, инициированная Сталиным и Бухариным в 1924 году — программа, которая не имеет основы в марксистской теории — стала выражением полного отказа от интернациональной перспективы, вдохновлявшей Октябрьскую революцию. Тем не менее Советский Союз представлял собой рождение нового общественного образования, созданного на фундаменте революции рабочего класса. Потенциал национализированной промышленности был продемонстрирован со всей ясностью. Советский Союз не мог избежать наследства российской отсталости — не говоря уже об отсталости его среднеазиатских республик — но его успехи в сфере науки, образования, социального обеспечения и искусства были действительными и существенными. Если марксистско-троцкистские предупреждения о катастрофических последствиях сталинистского режима казались такими невероятными даже тем левым, кто критиковал сталинистский режим, то это происходило именно из-за того, что достижения советского общества были столь существенными.
В конце концов, и это самое важное, природа и значение Октябрьской революции могут быть поняты, только если ее поместить в мировой политический контекст, в рамках которого она развивалась. Если бы Октябрьская революция была чем-то вроде исторического отклонения, то тогда то же самое следовало бы сказать о всем двадцатом веке. Закономерность Октябрьской революции можно было бы отрицать только в случае, если бы было правдоподобно утверждение, что захват власти большевиками носил, в сущности, оппортунистический характер, не имея каких-либо существенных основ в более глубоких течениях и противоречиях европейского и международного капитализма начала двадцатого века.
Однако это утверждение подрывается тем фактом, что историческим фоном Русской революции и захвата власти большевиками была Первая мировая война. Эти два события неразрывно связаны не просто в том смысле, что война ослабила царистский режим и создала условия для революции. В более глубоком смысле Октябрьская революция была особым проявлением глубокого кризиса международного капиталистического порядка, из которого выросла сама эта война. Тлеющие противоречия мирового империализма довели конфликт между международной экономикой и капиталистической системой национальных государств до точки взрыва в августе 1914 года. Те же самые противоречия, которые более двух лет кровавой резни на фронтах войны не могли найти своего разрешения, лежали в основе социального взрыва Русской революции. Вожди буржуазной Европы стремились ликвидировать хаос мирового капитализма одним способом. Вожди революционного рабочего класса, большевики, пытались найти способ выхода из этого хаоса другим образом.
Понимая глубокие исторические и политические последствия понимания этой более тесной связи между мировой войной и Русской революцией, буржуазные ученые предприняли множество попыток подчеркнуть случайные и непредвиденные аспекты Первой мировой войны, чтобы показать, что не было необходимости в том, чтобы война разразилась в августе 1914 года, что существовали другие средства, благодаря которым кризис, развязанный убийством эрц-герцога Франца-Фердинанда в Сараево, мог бы быть урегулирован. На эти аргументы следует сделать два замечания.
Первое — это то, что хотя другие решения были возможны, война была решением, которое было вполне сознательно и обдуманно выбрано правительствами Австро-Венгрии, России, Германии, Франции и, в конечном счете, Великобритании. Нет необходимости полагать, что все эти державы хотели войны, но в результате все они решили, что война была предпочтительнее урегулирования путем переговоров, которое могло потребовать уступки того или другого стратегического интереса. И вожди буржуазной Европы продолжали войну, даже когда ее цена, выраженная в количестве погибших, превысила миллионы. Никаких серьезных переговоров для восстановления мира между воюющими державами не было до начала социальной революции, сначала в России, а затем в Германии, — что привело к изменению в классовых отношениях и вынудило прекратить войну.
Второе замечание касается того, что взрыв катастрофической мировой войны предвидели задолго до ее начала социалистические вожди рабочего класса. В 1880-х гг. Энгельс предупреждал о войне, в которой столкновение промышленных капиталистических держав опустошит большую часть Европы. Война, писал Энгельс Адольфу Зорге в январе 1888 года принесла бы опустошение "такое же, как и Тридцатилетняя война. И дело быстро не кончилось бы, несмотря на громадные военные силы... Если бы война была доведена до конца без внутренних волнений, то наступило бы такое истощение, какое Европа не переживала уже 200 лет" [29].
Годом позже, в марте 1889 года Энгельс писал Лафаргу, что война "для меня это самая ужасная возможность". Это будет война, "в которой будет от 10 до 15 миллионов сражающихся; которая произведет неслыханное опустошение только для того, чтобы их прокормить; война, которая вызовет насильственное и всеобщее подавление нашего движения, обострение шовинизма во всех странах и в конце концов ослабление в десять раз худшее, чем после 1815 года, период реакции, основанный на истощении всех народом, совершенно обескровленных, — все это против очень незначительного шанса, что эта ожесточенная война приведет к революции, — это приводит меня в ужас" [30].
В течение следующих 25 лет европейское социалистическое движение ставило в центр своей политической агитации борьбу против капиталистического и империалистического милитаризма. Анализ существенной связи между капитализмом, империализмом и милитаризмом лучшими теоретиками социалистического движения и многочисленные предупреждения, что империалистическая война почти неизбежна, опровергают утверждение, согласно которому события августа 1914 года были случайны и не имели прямой связи с неизбежными противоречиями мирового капиталистического порядка.
В марте 1913 года, меньше чем за 18 месяцев до начала Первой мировой войны, был дан следующий анализ смысла кризиса на Балканах:
"Балканская война не только уничтожила старые границы на Балканах и не только разожгла до белого каления взаимную ненависть между балканскими государствами, она также надолго нарушила равновесие между капиталистическими государствами Европы..."
"Европейское равновесие, которое уже было в высшей степени нестабильным, теперь совершенно опрокинуто. Трудно предвидеть, решат ли руководящие лица Европы довести сейчас дело до предела и начать всеевропейскую войну" [31].
Автором этих строк был Лев Троцкий.
Из якобы случайного и непредвиденного характера Первой мировой войны ученые апологеты капитализма выводят случайную природу всякого другого неприятного эпизода в истории капитализма двадцатого века: Великой депрессии, подъема фашизма и начала Второй мировой войны. Все это было делом ложных суждений, непредвиденных случайностей и, конечно же, разных плохих парней. Как нам говорил покойный французский историк Франсуа Фюре (Francois Furet), "истинное понимание нашего времени возможно только тогда, когда мы освободимся от иллюзии необходимости: единственный способ объяснить двадцатый век, в той степени, в какой какое-либо объяснение возможно, заключается в подтверждении его непредсказуемого характера..." Он заявляет, что "история двадцатого века, подобно истории восемнадцатого и девятнадцатого столетий, могла бы принять иной курс: нам только нужно представить его без Ленина, Гитлера или Сталина" [32].
В подобном же духе профессор Генри Эшби Тёрнер-младший (Henry Ashby Turner, Jr.) из Йельского университета посвятил целую книгу демонстрации того, что приход к власти Гитлера был по большей части результатом случайностей. Да, существовали определенные давнишние проблемы в германской истории, не говоря уже о немногих несчастных случайностях вроде мировой войны, Версальского мира и мировой депрессии. Однако, что намного более важно, "удача — самая капризная из случайностей — явно была на стороне Гитлера" [33]. Существовали также "личные симпатии и антипатии, оскорбленные чувства, озлобленные союзы и жажда мести", — все вместе оказывало влияние на германскую политику непредсказуемым образом. И, конечно, была также "случайная встреча Папена и барона фон Шредера в Аристократическом клубе", которая, в конце концов, пошла на пользу Гитлеру [34].
Удивительно: если бы только фон Папен простудился и остался в постели, а не пошел бы в Аристократический клуб, то весь ход двадцатого века мог бы выглядеть иначе! Равным образом можно было бы утверждать, что всем развитием современной физики мы обязаны славному яблоку, которое по счастью упало на голову Ньютону.
Если история является просто "россказнями идиота, исполненных смысла и бессмыслицы, не означающих ничего", то тогда зачем ее изучать? Предпосылкой лекций этой недели является то, что разрешение проблем мира, в котором мы живем — проблем, которые угрожают человечеству катастрофой — требует не только исчерпывающего фактического знания истории двадцатого века, но также и глубокого усвоения уроков многих трагических событий, через которые прошел рабочий класс за последние 100 лет.
Когда начался 2000 год, на книжный рынок было выпущено большое количество томов, посвященных изучению уходящего века. Одной из популярных тем этого периода стали размышления о "коротком двадцатом веке" (short twentieth century). Это понятие выдвигалось в особенности Эриком Хобсбаумом (Eric Hobsbawm), который доказывал, что характерные особенности, определившие этот век, проявились с начала Первой мировой войны в 1914 году и исчезли с кончиной СССР в 1991 году. Какими бы ни были намерения Хобсбаума, этот подход имел тенденцию к поддержке доказательства того, что решающие события двадцатого века стали некоей разновидностью сюрреалистического отклонения от реальности, а не выражением объективной исторической закономерности.
Отвергая это определение, я полагаю, что эту эпоху было бы намного лучше охарактеризовать как "незавершенное столетие" (uncompleted century). Разумеется, с точки зрения исторической хронологии двадцатый век прошел свой путь. Он завершился. Но с точки зрения великих и коренных проблем, которые лежат в основе массовых социальных сражений и переворотов периода между 1901 и 2000 годами, очень мало что было разрешено.
Двадцатый век оставил двадцать первому столетию огромный неоплаченный счет. Все ужасы, с которыми столкнулся рабочий класс в ходе прошлого века — война, фашизм, сама возможность уничтожения человеческой цивилизации — остаются с нами и сегодня. Мы не говорим, как это делали экзистенциалисты, об опасностях и дилеммах, которые внутренне присущи самой природе человеческого состояния. Нет, мы рассматриваем существенные противоречия капиталистического способа производства, с которыми величайшие революционные марксисты двадцатого века — Ленин, Люксембург и Троцкий — боролись на намного более ранней стадии их развития. То, что не могло быть разрешено в прошлом веке, должно быть разрешено в этом. В противном случае есть очень большая и реальная опасность того, что этот век будет для человечества последним.
Вот почему изучение истории двадцатого века и усвоение его уроков является вопросом жизни и смерти.
Примечания:
[1] The USSR and Socialism: The Trotskyist Perspective (Detroit, 1990), pp. 1-2.
[2] The Junius Pamphlet (London, 1970), p. 7.
[3] On "What Is History?" (London and New York, 1995), pp. 6-7.
[4] Ibid, p. 7.
[5] The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation (Baltimore, 1990), p. 63.
[6] Quoted in Jean-Franзois Lyotard, by Simon Malpas (London and New York, Routledge, 2003), pp. 75-76.
[7] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд., т. 21, с. 274.
[8] Truth and Progress (Cambridge, 1998) p. 228.
[9] Ibid, p. 229.
10] Philosophy and Social Hope (London and New York, 1999), p. 36.
[11] Cited in Jenkins, p. 103.
[12] Truth and Progress, p. 233.
[13] Ibid.
[14] Preface to Max Weber and Karl Marx by Karl Lцwith (New York and London, 1993), p. 5.
[15] Interesting Times (New York, 2002), p. 127.
[16] New York, 2000, p. 3.
[17] Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom—The Rise and Fall of the Communist Utopia (Stamford, 1995)
[18] P. 225.
[19] New York, 2000, p. 286.
[20] C. B. Macpherson, The Rise and Fall of Economic Justice (Oxford, 1987), p. 77.
[21] Ibid, pp. 284-88.
[22] New York, 1995. p. 1.
[23] Ibid, pp. vii-viii.
[24] Ibid, p. 56.
[25] Utopianism and Marxism (New York, 1987), p. 68.
[26] Ibid, p. 72.
[27] Necessary and Unnecessary Utopias (Suffolk, 1999), p. 22.
[28] Turner, preface to Karl Marx and Max Weber, p. 5.
[29] К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., 2-е изд-е, т. 37, с. 9-10.
[30] Там же, с. 140.
[31] Leon Trotsky, The Balkan Wars 1912-13 (New York, 1980), p. 314.
[32] The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago, 1999), p. 2.
[33] Hitler's Thirty Days to Power, (Addison Wesley, 1996), p. 168.
[34] Ibid.