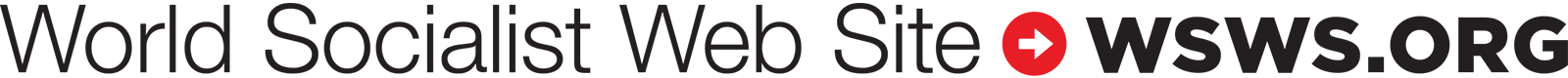Советский писатель Василий Гроссман (Сталинград, Жизнь и судьба, Народ бессмертен) родился в 1905 году, в год первой русской революции, в Бердичеве, торговом городе в Киевской губернии Российской империи. После Октябрьской революции и окончании Гражданской войны Гроссман в 1923 году переехал в Москву, где учился на инженера.
Хотя он никогда не был членом большевистской партии, он был непосредственным свидетелем важнейших политических и литературных дискуссий и столкновений 1920-х годов, в которых Левая оппозиция Льва Троцкого выступала против националистического предательства Октябрьской революции советской бюрократией. В конце 1920-х и начале 1930-х годов Гроссман встречался с левыми оппозиционерами, в том числе с троцкистским литературным критиком Александром Воронским и многими деятелями Коммунистического Интернационала (Коминтерна).
Многие из его друзей и коллег были арестованы и казнены, но Гроссману удалось пережить Большой террор 1937–1938 годов. Когда началась Великая Отечественная война Гроссман стал военным корреспондентом главной газеты Красной армии Красная звезда. Гроссман был первым журналистом, осветившим нацистский геноцид восточноевропейских евреев.
Совместно с другом и писателем Ильей Эренбургом Гроссман подготовил в 1947 году сборник свидетельств о Холокосте, так называемую Черную книгу. Однако в рамках растущего антисемитизма со стороны сталинской бюрократии их книга сразу же попала под запрет, а многие из тех, кто принимал участие в подготовке книги, были репрессированы. Произведения Гроссмана во время и после войны подвергались немалой цензуре, в том числе во время «оттепели» Никиты Хрущева (середина 1950-х — середина 1960-х). Бюрократия инициировала «оттепель» в качестве реакции на огромный политический кризис 1956 года, допустив более широкие рамки политических и культурных дискуссий. Гроссман завершил второй том своего великого труда о Второй мировой войне Жизнь и судьба в 1959 году, но работа была запрещена и опубликована только в 1980 году, через 16 лет после смерти автора.
Британский поэт и переводчик Роберт Чандлер и его жена Элизабет Чандлер потратили несколько десятилетий на перевод ряда произведений Гроссмана на английский язык. Они перевели и издали Сталинград (используя в качестве основы Сталинградские очерки, а также другие тексты Гроссмана), Народ бессмертен и сборник «Дорога».
Ниже приводится интервью с Робертом Чандлером о Гроссмане, его взглядах на литературу и советское общество, а также о том, как писателя воспринимают на Западе. В скором времени будет опубликовано интервью с российским литературным критиком Юлией Волоховой об отношениях Гроссмана с Александром Воронским и о литературных дебатах 1920-х годов.
* * * * *
Вы потратили много лет на перевод Василия Гроссмана. Что привлекло вас к произведениям Гроссмана, почему, и когда вы пришли к убеждению, что такие произведения, как Сталинград и Народ бессмертен, должны быть переведены?
Прошло более 40 лет с тех пор, как я впервые познакомился с его работой. Любопытно, что на самом деле на каждом этапе пути я сначала сопротивлялся, а затем, в конце концов, понимал, что сильно недооценивал Гроссмана. Первый шаг был сделан, когда покойный искусствовед и друг Игорь Наумович Голомшток пододвинул ко мне этот огромный роман [Жизнь и судьба] и сказал, что я должен перевести его, если хочу утвердиться в качестве переводчика. Он думал, что это великий роман. Я просто посмеялся над ним и сказал: «Я даже не читаю такие длинные книги на русском языке, не говоря уже о том, чтобы переводить их».
В то время я гораздо больше интересовался поэзией, особенно модернистской поэзией, а также магическим реализмом. Жизнь и судьба Гроссмана казались немного старомодными. Но Игорь Наумович был восхитительно упрям. Он вел на тему романа передачи для русской службы Би-би-си и присылал мне стенограммы своих программ. Я понял, что это замечательный роман. Я опубликовал статью о романе в издании Index on Censorship, и это привело к публикации книги.
Но в то же время я как бы впитал в себя то, что тогда всеми считалось общепринятым: что Гроссман довольно скучен, такой средний советский романист, который претерпел некоторую трансформацию в последние годы своей жизни и написал одно-единственное правдивое произведение. Что его благонамеренные поклонники преувеличивают разницу между его ранними и более поздними работами в надежде привлечь внимание всего мира к Гроссману.
Но историк Йохен Хеллбек очень категорично сказал мне, каким великим был роман Сталинград. Он также решительно настаивал на том, чтобы я посмотрел рукописи и машинописные тексты. Это казалось почти невозможным, потому что я понимал, что было 12 разных версий романа. К счастью, итальянский ученый Пьетро Тоско, работавший в Москве, смог прислать мне полный скан одного из первых машинописных текстов.
Я также был очень благодарен Юрию Бит-Юнану, московскому знатоку Гроссмана. Он дал мне очень четкое объяснение того, что представляют собой эти якобы 12 различных версий. Многие из них вообще не полные версии; это просто дополнительные главы, добавленные уже потом. Было совершенно ясно, что существовала одна версия, которая, вероятно, была самым ранним полным машинописным текстом, и что все последующие добавки и сокращения происходили в процессе компромисса, когда Гроссман имел дело с редакторами, пытаясь придумать что-то, что все сочли бы приемлемым.
Как только я обнаружил этот по-настоящему важный машинописный текст, все стало намного проще. Еще одна вещь, которая облегчала задачу, заключалась в том, что существовало три разных прижизненных публикации. Была журнальная публикация 1952 года. Она состоялась еще при жизни Сталина и подвергалась самой жесткой цензуре. Затем была версия 1954 года, после смерти Сталина [в марте 1953 года], которая подверглась чуть меньшей цензуре, а затем была публикация 1956 года, когда Никита Хрущев инициировал «оттепель». Просматривая эти три разные версии, становилось совершенно ясно, какие вещи Гроссман хотел бы вновь включить в роман, когда ему представилась бы такая возможность.
Работа над Сталинградом была ознакомлением с характером советской цензуры. Некоторые сокращения были именно такими, каких я ожидал — упоминания о коллективизации, ГУЛАГе и так далее, — но довольно многие отрывки были не такими. Очень многое из того, что Гроссман стремился отразить, было, скорее, вопросом тона: кусочки юмора, важный генерал, отпускающий какое-нибудь глупое, легкомысленное или эгоистичное замечание или шутку перед важным сражением. Генералам не полагалось этого делать. Все упоминания о насекомых — все эти блохи и вши — были безжалостно убраны из версий, опубликованных в 1952 и 1954 годах.
[Советский писатель и диссидент] Андрей Синявский [1925–1997] однажды определил социалистический реализм как разновидность неоклассицизма: все должно быть прочным, все должно быть достойным, все должно быть в одном тоне — серьезном тоне, — особенно когда речь идет о чем-то действительно важном, таком как Сталинградская битва, которая был краеугольным камнем для послевоенного Советского Союза.
Как только мне стало ясно, как Гроссман хочет двигаться, это придало мне уверенности в работе с машинописными текстами. Я бы сказал, что, вероятно, в 95 процентах случаев, когда я использовал отрывки из машинописного текста, другие люди на моем месте поступили бы так же. И версия, которую мы опубликовали, безусловно, жизненна; я бесился от радости по поводу того, что эту версию напечатали, по меньшей мере, еще в дюжине стран.
Однако новое издание Сталинграда, похоже, не было опубликовано в России, верно?
Нет, не было. Это единственная страна, где, хотя и нет абсолютного запрета на Гроссмана, он не пользуется широкой известностью. Его гораздо больше читают в большинстве других европейских стран и в некоторых неевропейских странах. Конечно, Жизнь и судьба все еще издается в России, но Гроссману грозило бы тюремное заключение за то, что он в ней написал. Проведение прямой параллели между нацистской и сталинской политикой является сегодня уголовным преступлением.
У меня было просветление, горько-сладкий момент, когда я понял, почему Гроссмана сегодня мало читают в России. Примерно девять-десять лет назад я познакомился с Арсением Рогинским, одним из основателей [правозащитной организации и научно-исследовательского института] «Мемориал». Он выступал на конференции в Кембридже. Я представился переводчиком Гроссмана. Он очень тепло улыбнулся мне и сказал: «А, нашписатель». Но «Мемориал» к тому времени был очень маргинализованной организацией, на них уже сильно давили, в отличие от того времени, когда он только начинался в конце 1980-х–начале 1990-х годов, когда это была огромная организация. Разрушение «Мемориала» очень печально. Но я уверен, что когда-нибудь будет опубликована полная версия Сталинграда. Русские обычно в конце концов публикуют хороших писателей, даже если иногда это занимает очень много времени.
При Путине в России идет массивная пропаганда неосталинизма, а работы Гроссмана явно идут вразрез с этим. Гроссман был одним из самых выдающихся военных журналистов ХХ века и с гордостью называл себя писателем войны. Не могли бы вы подробнее рассказать о его переживаниях во время войны и о том, как это повлияло на его творчество?
Его работы 1930-х годов неровны. Иногда со страницы внезапно выплывает великий, оригинальный писатель, а потом идут более скучные главы. Его репортажи во время войны были чрезвычайно важны как для него, так и для его читателей.
Красная звезда была замечательной газетой. Это была официальная газета Красной армии, аналогов которой нет ни в одной другой стране. Наряду с Правдой и Известиями это была одна из самых популярных газет того времени, ее читали как гражданские лица, так и в армии. Давид Ортенберг, главный редактор Красной звезды до сентября 1943 года, был одаренным и храбрым редактором. Он взял на службу писателя Андрея Платонова [1899–1951] в качестве военного корреспондента по рекомендации Гроссмана, хотя Ортенберг прекрасно знал, что Платонов за десять лет до этого попадал в опалу. Большинство великих советских писателей что-то написали для Красной звезды.
Гроссман действительно был очень мужественным человеком. И у него был необыкновенный дар, заставлявший людей беседовать с ним, самых разных людей. Это были высокопоставленные генералы, имевшие репутацию неразговорчивых, простые солдаты. Его дочь однажды рассказала мне, как она и ее школьные друзья были удивлены, даже озадачены, когда увидели Гроссмана, сидевшего на уличной скамейке и поглощенного разговором с людьми, на которых сами они смотрели свысока как на ничтожных неудачников. Вероятно, он давал людям понять, что не осуждает их, и это позволяло им разговориться. Другие корреспонденты бывали поражены: они пытались взять интервью у какого-нибудь важного офицера и им это не удавалось, а Гроссман мог часами болтать с таким человеком. Не менее важно и то, что он был в состоянии запоминать эти долгие разговоры в деталях. Он не делал заметок в блокноте, и это отчасти позволяло людям чувствовать себя с ним непринужденно, доверять ему.
Нам следует помнить, что Советский Союз во многих отношениях был иерархическим, разделенным на снобистские прослойки, обществом, особенно к концу 1930-х годов. Рассказы Гроссмана о голодном терроре на Украине в значительной степени основаны на том, что ему рассказывала домработница из квартиры Заболоцких. Он был очень близок с поэтом Николаем Заболоцким (1903–1958) и проводил много времени в их доме. Их домработница приехала из украинской деревни и в 1930-е годы была активисткой, принимавшей участие в коллективизации и конфискации зерна во время Голодомора. Гроссман был готов слушать дворника или чернорабочего, которых гнушались многие советские писатели и важные советские деятели того времени. Они считали простых рабочих ниже себя. Но он был не таким, он мог слушать кого угодно.
Его интерес к другим людям и его способность слушать их, по-видимому, связаны с его концепцией реализма. Как бы вы описали его понимание реализма?
Гроссман — редкий пример писателя, который писал все лучше и лучше на протяжении всей своей жизни. Его последние рассказы напоминают поэзию. Гроссман не лезет из кожи вон, чтобы использовать язык экстраординарным образом. Он всегда готов использовать самый обычный и простоватый язык, но если обычный, простой язык не подходит, он может придумывать весьма необычные фразы.
Что касается его реализма: его вкусы довольно старомодны. Он не обращал внимания на модернистскую поэзию. Он мог признать, что Осип Мандельштам [1891–1938] — великий поэт. Тем не менее Гроссману принадлежит довольно трогательная формулировка о том, что большая часть модернистской поэзии похожа на работу ювелира, тогда как то, что хочет он — это писать произведения, которые станут хлебом насущным для людей.
Гроссмана иногда критиковали за то, что он просто реалист. Один рецензент первой публикации Жизни и судьбы написал, что у Гроссмана не было настоящего воображения, что он просто репортер, рассказывающий нам о том, что он или кто-то другой сам видел. Это абсолютно неверно.
Гроссман хотел правды. Когда ему был доступен источник истины, когда он встречал людей-собеседников, когда он узнавал о вещах и событиях, он использовал их. Но если свидетельств не было, тогда он опирался на свое воображение.
Одним из двух или трех самых памятных отрывков Гроссмана является сцена в газовой камере из Жизни и судьбы. Последняя мысль Софьи Осиповны, когда она «усыновляет» маленького Давида, — это то, что она, наконец, стала матерью. Гроссман конечно не мог использовать для этой сцены ничего, кроме собственного воображения, но она абсолютно убедительна. Сцена ничем не отличается от тех, которые описывал Гроссман, когда полагался на свои воспоминания или воспоминания других людей. На самом деле, очень мало писателей смогли бы более убедительно представить то, что для большинства людей невообразимо.
Гроссмана часто называли «писателем-диссидентом». Исторически, однако, это не совсем точно, и ваши публикации Сталинград и Народ бессмертен, по сути, делают это ясным. Гроссман не был частью диссидентского движения (да и умер он до того, как оно по-настоящему разгорелось), а в течение определенного периода он был популярен и о нем хорошо отзывались власти. Более того, до конца своей жизни, несмотря на резкую критику сталинизма и советского правительства, он сохранял приверженность социализму и Октябрьской революции, в отличие от многих диссидентов, которые отвернулись от социализма, особенно после разгрома Пражской весны в 1968 году. Как, по вашему мнению, Гроссман относился к революции и советскому обществу, и как этот взгляд эволюционировал на протяжении десятилетий?
С такими писателями, как Андрей Платонов и Гроссман, очень трудно понять, что они на самом деле думали в 1930-е годы. Иногда я думаю, что легче понять, чему, скажем, верил Данте 700 лет назад, чем узнать потаенные мысли Платонова или Гроссмана.
Но мы знаем наверняка: Гроссман был очень близок со своей двоюродной сестрой Надеждой Алмаз, которая была тесно связана с интернационалистами и людьми, близкими к Коминтерну, такими, как Виктор Серж [тогда член Левой оппозиции]. Надя Алмаз была своего рода наставницей Гроссмана. Она помогла ему быть впервые изданным в Москве. Многие из наиболее привлекательных фигур в его произведениях — люди из Коминтерна, Крымов, например, в Сталинграде и Жизни и судьбе. Это не автопортрет, но Гроссман передает через Крымова много своих собственных переживаний. Записная книжка Гроссмана о его путешествии в Ясную Поляну, имение Льва Толстого, практически идентична путешествию туда же Крымова в Сталинграде. Гроссман не наделил бы кого-то чуждого себе своими собственными мыслями.
На протяжении всей своей писательской работы, включая его самые последние рассказы, Гроссман испытывает большую симпатию к ранним активистам Народной воли, первым революционерам. Я в этом совершенно уверен. Я бы даже сказал, что он их романтизирует. [«Народная воля» была революционной организацией в 1880-х годах, в которую входили такие деятели, как Андрей Желябов и Вера Фигнер. Она была частью народнического движения, из которого также вышел Георгий Плеханов, «отец русского марксизма»].
Отношение Гроссмана к диссидентскому движению и революции — сложный вопрос. Хотя верно, что диссидентского движения еще не существовало при жизни Гроссмана. В последние годы своей жизни он практически отошел от общественной жизни. Он встречался со многими людьми, которые возвращались из ГУЛАГа, собирал их рассказы. С одной стороны, он не был частью чего-либо, что мы могли бы назвать диссидентским движением; с другой стороны, его мысли о российской истории в книге Все течет — это самые острые и обличительные описания, которые я читал, относительно того, что было не так в России за прошедшие столетия. Это лучшие отрывки из его творчества. Так что в этом отношении он был непреклонным. Но, подобно Андрею Платонову или Варламу Шаламову [1907–1982], он писал, ощущая себя внутри советского общества, в то время как такой писатель, как Михаил Булгаков [1881–1940], который, вероятно, всегда был враждебен революции, писал со стороны или даже взирая сверху.
Однако я не согласен с вами в одном вопросе. Это правда, что Гроссман до конца своей жизни симпатизировал народникам XIX века и ранним революционерам. И, возможно даже, что он оставался преданным Октябрьской революции на протяжении 1920-х и 1930-х годов, возможно, даже позже. Однако в своем позднем шедевре Все течет (1964) он сокрушительно критикует Ленина и Октябрьскую революцию. В понимании Гроссмана, Февральская революция 1917 года дала русским шанс на свободу, которым они, к сожалению, не сумели воспользоваться.
Что поражает в произведениях Гроссмана, так это то, насколько остро он воспринимал противоречия советского общества. Его изображение советского общества во время войны в Сталинграденосит почти панорамный характер. Кто-то, пишущий «со стороны», вряд ли смог бы это сделать.
Мне нравится слово «панорамный». В его работах есть огромное разнообразие. Какими бы важными ни были его критические замечания, было бы большой потерей, если бы его просто считали банальным критиком Советского Союза.
Позвольте мне сказать несколько слов о его коротких рассказах, поскольку они являются еще одним свидетельством его парадоксального положения. Я не читал его последних рассказов вплоть до начала 2000-х годов. Никто никогда не упоминал о них при мне, поэтому я предполагал, что они не важны. Однако некоторые из них являются шедеврами.
Большинство из них были опубликованы в начале 1960-х годов, но только в советских журналах. У них не было запретного флера «самиздата», поэтому они не распространялись среди диссидентов. Они также не публиковались в крупных официальных изданиях, так что эти рассказы остались практически незамеченными.
«Мама» — это рассказ о домашнем хозяйстве Николая Ежова (1895–1940), главы советской тайной полиции, его семье и его мире, увиденном глазами его маленькой приемной дочери пяти-шести лет. Все самые видные политические деятели того времени, включая самого Сталина, посещали дом Ежовых, как и многие выдающиеся художники, музыканты, кинематографисты и писатели, включая Исаака Бабеля.
Однако мы видим этих людей глазами маленькой Нади или ее добродушной, но политически невежественной няни из деревни. Гроссман ведет нас в самый темный из миров, но с состраданием и с точки зрения своеобразной невинности. Няня описана как единственный человек в квартире «со спокойными глазами». Это необыкновенная история, но о ней очень мало известно. Это рассказ из сборника «Дорога», который включает несколько его рассказов.
Удивительно, как много работ мы все еще открываем для себя сегодня, даже произведений такой относительно известной фигуры, как Гроссман. Полное издание Сталинграда, на мой взгляд, настоящего шедевра литературы ХХ века, вышло через 70 лет после его написания. Это дает представление о том, как много еще предстоит узнать о советской литературе.
Мы ужасно мало знаем о советской культуре в целом. Я думаю, что одним из величайших художников ХХ века, не только в России, но и во всем мире, был Павел Филонов [1883–1941]. Он был абсолютно страстным социалистом. Он не хотел продавать свои картины, поэтому все они оказались в Русском музее, в тогдашнем Ленинграде [сегодня Санкт-Петербург]. Конечно, они полностью отличаются от стиля социалистического реализма, и поэтому советские власти прятали их до конца 1980-х годов. А западные искусствоведы не давали себе труда ездить в Петербург, чтобы увидеть эти картины.
Все довольно просто: по большому счету, мы знаем только тех писателей и художников, которые стали объектом какого-то огромного международного скандала. Мы знаем Доктора Живаго Бориса Пастернака [1890–1960], потому что советские власти вынудили Пастернака отказаться от Нобелевской премии. Примерно то же самое было и с Александром Солженицыным [1918–2008] и поэтом Иосифом Бродским [1940–1996]. Из-за того, что они были изгнаны, они привлекли к себе огромное внимание. В отношении Гроссмана вышло иначе. Мы игнорировали его в течение многих лет, но потом узнали драматическую историю «ареста его рукописи». Эта история, спустя долгое время после его смерти, привлекла к нему некоторое международное внимание, пусть даже только благодаря его последним работам.
Однако, похоже, ситуация меняется. Есть много новых переводов значимых советских писателей, подобных Гроссману, например, Шаламова, сторонника Левой оппозиции в конце 1920-х годов, и Михаила Зощенко [1894–1958]. И поразительно, насколько позитивным был прием ваших последних переводов Гроссмана. Как вы думаете, почему его произведения так непосредственно обращаются к сегодняшним читателям, в том числе к молодым поколениям, которые прошли через опыт, казалось бы, совершенно отличный от опыта Гроссмана?
Гроссману потребовалось довольно много времени, чтобы стать по-настоящему популярным. В Соединенных Штатах роман Жизнь и судьба был опубликован в середине 1980-х годов, но затем не печатался. Здесь, в Великобритании, роман продолжали печатать, но продавалось всего около пятисот экземпляров в год. Только в начале 2000-х годов люди заново открыли для себя Гроссмана. Отчасти это было делом рук таких историков, как Энтони Бивор, который постоянно из кожи вон лез, чтобы привлечь к нему внимание. И отчасти это произошло из-за переиздания Жизни и судьбы в превосходном серийном издании New York Review of Books Classics.
Отчасти это также связано с тем, что за последние 20 лет мир стал более сложным. Я знаю пару военных корреспондентов, которые в настоящее время находятся на Украине. Они перечитывают Гроссмана со страстным энтузиазмом, и им кажется, что он действительно имеет отношение к тому, что они видят сейчас. Магический реализм, который был так популярен, когда я впервые переводил Гроссмана, возможно, начал казаться немного поверхностным в современном мире с его множеством огромных, неразрешимых реальных проблем.
Одна вещь, которая продолжает меня удивлять, — это то, как часто люди, которых я не знаю, пишут мне ни с того ни с сего и говорят почти одинаковыми словами: «Чтение Жизни и судьбы изменило мою жизнь». Я подозреваю, что одной из причин этого является акцент Гроссмана на моральном выборе. В его творчестве много моментов, когда люди сталкиваются с моральным выбором, имеющим значение для жизни и смерти. Возьмем, к примеру, сцену с горящей больницей в Сталинграде: совсем юная, на вид довольно глупая молодая медсестра убегает из больницы, потому что ее первой реакцией был страх, опасение, что на ее лице останутся шрамы. Она бежит на какое-то расстояние от больницы, потом внезапно останавливается, бежит обратно в больницу и с этого момента ведет себя с неизменным героизмом, несколько раз поднимаясь по горящей лестнице и помогая оттаскивать раненых людей в безопасное место. В творчестве Гроссмана много подобных моментов. Он дает своим персонажам шанс на искупление, и они им пользуются.
Русская знакомая, живущая в США, рассказала мне, что, когда она жила в России, она каждый день сталкивалась с каким-то важным моральным выбором, в то время как, живя в Америке, она часто месяцами не делает никакого реального выбора вообще. Но ситуация меняется, люди осознают, что им приходится сталкиваться со все большим числом ситуаций морального выбора в связи с изменением климата и всеми другими нашими неразрешимыми проблемами. Я думаю, что трудный реализм Гроссмана говорит обо всем этом.
Есть и другие аспекты работы Гроссмана, которые приобретают значимость сегодня. В течение последних 20 лет англоязычный мир постепенно приходил к пониманию того, что Вторая мировая война в основном велась между Советским Союзом и нацистской Германией, и что западные союзники сыграли в ней весьма второстепенную роль. Есть много, много причин, по которым Гроссман кажется сегодня более актуальным, чем когда я впервые начала переводить его более 40 лет назад.