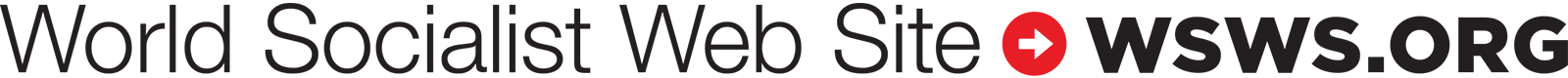Первая часть — Вторая часть — Третья часть — Четвертая часть — Пятая часть — Шестая часть
Восемьдесят лет назад, 20 августа 1940 года, Лев Троцкий — изгнанный соруководитель Октябрьской революции 1917 года и основатель Четвертого Интернационала, — был смертельно ранен агентом ГПУ, тайной полиции Советского Союза. Революционный лидер скончался в больнице Мехико 26 часов спустя, ранним вечером 21 августа.
Убийство Троцкого стало результатом масштабного политического заговора, организованного тоталитарным бюрократическим режимом во главе со Сталиным, имя которого навсегда останется в истории синонимом контрреволюционного предательства, измены и безграничной преступности. Убийство Троцкого явилось кульминацией кампании политического геноцида, направлявшейся из Кремля. Ее целью было физическое истребление целого поколения марксистских революционеров и передовых социалистических рабочих, сыгравших ведущую роль в подготовке и руководстве большевистской революцией и создании первого в истории рабочего государства. Три показательных процесса, проведенные в Москве между 1936 и 1938 годами, — судебные подлоги, послужившие псевдолегальным прикрытием убийства практически всех главных вождей Октябрьской революции, — были лишь публичным проявлением кампании террора, поглотившей сотни тысяч жизней и нанесшей сокрушительный удар по интеллектуальному и культурному развитию Советского Союза и всемирной борьбе за социализм.
Оказавшийся в изгнании, лишенный советского гражданства и живущий на «планете без визы», лишенный всякого доступа к общепринятым атрибутам власти, вооруженный только пером и зависящий от поддержки сравнительно небольшого круга преследуемых товарищей по всему миру, — не было человека, которого бы так боялись власти, правившие на планете, как Троцкого. Троцкий — основатель и лидер Четвертого Интернационала, «партии непримиримой оппозиции не только в капиталистических странах, но и в СССР», — оказал такое политическое и интеллектуальное влияние, какого не было ни у кого из его современников. Он возвышался над ними всеми. В эссе под названием «Место Троцкого в истории» Сирил Джеймс, социалистический интеллектуал и историк вест-индского происхождения, писал:
«В течение последнего десятилетия он [Троцкий] был изгнанником, по-видимому, бессильным. В течение тех же десяти лет Сталин, его соперник, захватил власть, которой не обладал ни один человек в Европе со времен Наполеона. Гитлер потряс весь мир и хочет оседлать его, как колосс, покуда он жив. Рузвельт — самый могущественный президент, который когда-либо правил в Америке, а Америка — самая могущественная нация в мире. И все же марксистская оценка Троцкого так же тверда и правдива, как и суждение Энгельса о Марксе. До своего прихода к власти, во время этого и после своего падения Троцкий был вторым после Ленина среди современников, а после смерти Ленина стал величайшим руководителем нашего времени. Эту оценку мы оставляем истории» [1].
Положение Троцкого определялось не только тем, что он с несравненным блеском анализировал мир таким, каков он есть. Он также олицетворял революционный процесс, который определит его будущее. На одном из заседаний комиссии Дьюи, которые проводились в апреле 1937 года для расследования обвинений Кремля в адрес Троцкого и в итоге пришли к выводу, что Московские процессы были сфабрикованы, он заявил: «Я веду свою политику не ради дипломатических конвенций, но для развития международного революционного движения рабочего класса» [2].
Троцкий презирал любую разновидность политического шарлатанства, претендующего на то, что существуют легкие, то есть нереволюционные, решения огромных исторических задач, вытекающих из предсмертной агонии капиталистической системы. Революционная политика не достигнет своих целей, обещая чудеса. Большие социальные успехи могут быть достигнуты, настаивал он, «исключительно через воспитание масс, через агитацию, через разъяснение рабочим, что надо защищать и что надо ниспровергать». Этот глубоко принципиальный подход к революционной политике лег в основу троцкистской концепции морали. «Допустимы только те методы, которые не противоречат интересам революции», — писал он. Следование этому принципу ставило Троцкого, даже если рассматривать это только с моральной точки зрения, в абсолютную оппозицию сталинизму, методы которого были совершенно разрушительны для нужд социальной революции и, следовательно, прогресса человечества [3].
Преждевременная смерть Ленина в январе 1924 года, когда ему было всего 53 года, была политической трагедией. Убийство Троцкого в возрасте 60 лет стало катастрофой. Его смерть лишила рабочий класс последнего остававшегося представителя большевизма и величайшего стратега мировой социалистической революции. Однако теоретическая и политическая работа, которую Троцкий проделал в последний год своей жизни — первый год Второй мировой войны, — была решающей в обеспечении выживания Четвертого Интернационала перед лицом трудностей, которые казались непреодолимыми.
Троцкий был убит в расцвете своих интеллектуальных сил. Он сознавал, что его здоровье ухудшается, но, несмотря на это, не было никаких признаков ослабления его политической энергии. Он ежедневно писал очерки политического анализа и полемики. И все же это не мешало Троцкому упорно работать над биографией Сталина, которую, даже и в незавершенной форме, можно справедливо считать литературным шедевром.
Труды Троцкого в последний год его жизни были столь же блестящими, как и труды более ранних периодов. Анализ событий 1939–40 годов сохранил свое значение в более отдаленном по времени будущем. Ни одна другая фигура своего времени не продемонстрировала сопоставимого понимания состояния мира и того, куда он движется.
Например, 23 июля 1939 года, всего за шесть недель до начала Второй мировой войны, группа американских журналистов взяла у Троцкого интервью, в котором они спросили о его оценке мировой ситуации. Для удобства журналистов Троцкий говорил по-английски. Он напомнил журналистам, что за два года до этого он обещал приезжавшему американскому профессору лучше изучить английский язык, если американское правительство предоставит ему визу для въезда в Соединенные Штаты. С иронией Троцкий заметил: «Похоже, что США не интересуются моим знанием английского».
Хотя Троцкий был недоволен своим английским языком, стенограмма его выступления не оставляет сомнений в его мастерском понимании сложной мировой ситуации. «Капиталистическая система, — заявил он, — зашла в тупик». Троцкий продолжил:
«С моей точки зрения, я не вижу никакого нормального, законного, мирного выхода из этого тупика. Результат может быть создан только огромным историческим взрывом. Исторические взрывы бывают двух видов — войны и революции. Я полагаю, что мы получим оба вида. Программы нынешних правительств, как хороших, так и плохих, — если даже мы допустим, что есть и хорошие правительства, — программы различных партий, пацифистские программы и реформистские программы, кажутся теперь, по крайней мере, человеку, наблюдающему их со стороны, детской игрой на склоне вулкана перед извержением. Такова общая картина современного мира» [4].
Затем Троцкий упомянул о проходившей тогда Всемирной выставке в Нью-Йорке, темой которой был «Мир завтрашнего дня».
«Вы организовали Всемирную выставку. Я могу судить о ней только со стороны по той же причине, по которой так плох мой английский язык, но из того, что я узнал о выставке из газет, это огромное человеческое творение с точки зрения “Мира завтрашнего дня". Я считаю, что эта характеристика несколько односторонняя. Ваша Всемирная выставка может быть названа “миром завтрашнего дня” только с технической точки зрения, потому что если вы взглянете на реальный мир завтрашнего дня, то вы должны увидеть сотни военных самолетов над Всемирной выставкой, несущих бомбы, несколько сотен бомб, и результатом этой деятельности будет мир завтрашнего дня. Эта грандиозная человеческая творческая сила — с одной стороны, и эта страшная отсталость в самой важной для нас области, в общественной области — технический гений и, позвольте мне сказать, социальный идиотизм, — вот мир сегодняшнего дня» [5].
В качестве описания современного «мира сегодня» и предсказание «мира завтрашнего дня» — то есть того мира, который выйдет из кризисов нынешнего десятилетия, — вряд ли нужно было бы менять здесь хоть одно слово. Во всем мире правительства сочетают в себе безграничную жадность с безграничной глупостью, и они неспособны ответить компетентно или гуманно на вопрос: как будет разрешен этот кризис? Наш ответ тот же, что был тогда дан Троцким: решение придет в виде «огромного исторического взрыва». И, как объяснял Троцкий в 1939 году, такие взрывы бывают двух видов — войны и революции. Оба вида взрыва, — и война, и революция, — стоят на повестке дня.
Журналисты, опрашивавшие Троцкого в июле 1939 года, также хотели узнать, есть ли у него какие-либо советы американскому правительству относительно его внешней политики. Не без тени юмора Троцкий ответил:
«Должен сказать, что я не чувствую себя компетентным давать советы правительству Вашингтона по той же самой политической причине, по которой правительство Вашингтона не считает необходимым давать мне визу. Мы находимся в другом социальном положении, чем правительство Вашингтона. Я мог бы дать совет правительству, которое преследовало бы те же цели, что и я сам, но не капиталистическому правительству, а правительство Соединенных Штатов, несмотря на “Новый курс”, является, по моему мнению, империалистическим и капиталистическим правительством. Я могу только сказать, что должно делать революционное правительство — подлинное рабочее правительство в Соединенных Штатах.
Я думаю, что первым делом следовало бы экспроприировать Шестьдесят семей. Это была бы очень хорошая мера, не только с национальной точки зрения, но и с точки зрения урегулирования мировых отношений, — это был бы хороший пример для других наций» [6].
Троцкий понимал, что в ближайшее время этого не произойдет. Поражения рабочего класса в Европе и неизбежность войны задерживали революцию в Соединенных Штатах. Вступление Соединенных Штатов в грядущую войну было лишь вопросом времени. «Если американский капитализм выживет, а он выживет еще какое-то время, то мы будем иметь в Соединенных Штатах самый мощный империализм и милитаризм в мире» [7].
В июльском интервью Троцкий сделал еще одно предсказание. Фактически это было повторение политического анализа советской внешней политики, который он проводил в течение предыдущих пяти лет. Говоря об отстранении старого советского дипломата Максима Литвинова с поста наркома иностранных дел и замене его Молотовым, ближайшим соучастником Сталина во всех преступлениях, Троцкий заявил, что эта смена лиц служил «намеком Кремля Гитлеру, что мы [Сталин] готовы изменить нашу политику, реализовать нашу цель, которую мы представили вам и Гитлеру, несколько лет назад, потому что цель Сталина в международной политике — это урегулировать отношения с Гитлером» [8].
Даже в этот сравнительно поздний момент идея о том, что Советский Союз вступит в союз с нацистской Германией, считалась абсурдной практически всеми «экспертами». Но, как это часто бывало в прошлом, события подтвердили анализ Троцкого. Ровно через месяц после интервью с Троцким, 23 августа 1939 года, в Москве был подписан Пакт о ненападении между Сталиным и Гитлером. Последнее препятствие на пути военных планов Гитлера было устранено Сталиным. 1 сентября 1939 года нацистский режим вторгся в Польшу. Два дня спустя Англия и Франция объявили войну Германии. Через двадцать пять лет после начала Первой мировой войны началась Вторая мировая.
Неоднократно предсказывая поворот Кремля к Гитлеру, Троцкий нисколько не удивился предательству Сталина. Советский Союз, предупреждал он, заплатит страшную цену за недальновидность и некомпетентность Сталина. Вера советского диктатора в то, что он избавил советскую бюрократию от опасностей войны с нацистской Германией, оказалась лишь еще одним катастрофическим просчетом.
* * * * *
Начало войны спровоцировало политический кризис в Четвертом Интернационале, и этот кризис стал главным направлением работы Троцкого в последний год его жизни. Его ответ фракции меньшинства в американской Социалистической рабочей партии (СРП) во главе с Джеймсом Бёрнхемом, Максом Шахтманом и Мартином Эйберном имел принципиальное значение не только для защиты теоретических основ марксизма и исторического прогресса, представленного Октябрьской революцией, несмотря на преступления советской бюрократии. Полемика Троцкого предвосхитила многие из наиболее сложных вопросов революционной стратегии, программы и перспективы, которые возникли в период Второй мировой войны и после ее окончания.
Подписание пакта Сталина–Гитлера, за которым последовало советское вторжение в Польшу 17 сентября 1939 года и в Финляндию в ноябре того же года, вызвало возмущение широких слоев мелкобуржуазной радикальной интеллигенции и работников искусств в Соединенных Штатах. Многие члены этой большой и влиятельной социальной среды сумели примириться и даже поддержать уничтожение Сталиным старых большевиков во время террора и удушение Испанской революции. Преступления 1936–1939 годов произошли в то время, когда сталинский режим все еще выступал за международный альянс между Советским Союзом и «западными демократиями». Внутринациональным проявлением этой ориентации стало продвижение сталинистскими партиями союза, на основе капиталистической программы, между рабочими организациями и капиталистическими политическими партиями («Народный фронт»). Подписание Сталиным Пакта с Германией нанесло совершенно циничный и оппортунистический удар именно по этой форме классового сотрудничества. Настроение демократической мелкой буржуазии мгновенно повернулось против Советского Союза. В той мере, в какой демократическая интеллигенция некритически и ложно отождествляла сталинизм с социализмом, ее поворот против Советского Союза принял откровенно антикоммунистический характер.
Этот политический сдвиг отразился в развитии оппозиционной тенденции внутри Социалистической рабочей партии и других секций Четвертого Интернационала. Наиболее видными лидерами этой тенденции в рядах СРП были Макс Шахтман, один из основателей американского троцкистского движения и, после Джеймса Кэннона, наиболее влиятельная фигура в СРП, а также Джеймс Бёрнхем, профессор философии Нью-Йоркского университета. Они настаивали на том, что вследствие пакта Сталина–Гитлера и вторжения СССР в Польшу определение Советского Союза как переродившегося рабочего государства стало неприемлемым. Советский Союз, утверждали они, превратился в новую форму эксплуататорского общества, где бюрократия функционирует как новый тип правящего класса, непредвиденный в марксистской теории. Одним из терминов, использовавшихся меньшинством для описания советского общества, был «бюрократический коллективизм». Следствием этой новой оценки был отказ от обороны Советского Союза в случае войны с империалистическим государством, даже если противником будет нацистская Германия.
Для Троцкого требование Шахтмана и Бёрнхема, чтобы Четвертый Интернационал отказался от своего определения Советского Союза как переродившегося рабочего государства, было не просто вопросом терминологии. Каковы, спрашивал Троцкий, практически-политические последствия требования, согласно которому Советский Союз больше не может рассматриваться как рабочее государство?
«Признаем для начала, что бюрократия есть новый “класс”, и что нынешний режим СССР есть особая система классовой эксплуатации. Какие новые политические выводы вытекают для нас из этих определений? Четвертый Интернационал давно признал необходимость низвержения бюрократии революционным восстанием трудящихся. Ничего другого не предлагают и не могут предложить те, которые объявляют бюрократию эксплуататорским “классом”» [9].
Однако изменение определения Советского Союза, которого требовало меньшинство СРП, имело последствия, выходящие далеко за рамки уточнения терминологии. Устоявшееся определение СССР как переродившегося рабочего государства было связано с требованием политической, а не социальной революции. В основе этого различия лежало убеждение, что свержение сталинистской бюрократии не повлечет за собой изменения отношений собственности, сложившихся на основе Октябрьской революции. Рабочий класс, уничтожив бюрократический режим и восстановив советскую демократию, сохранит экономическую систему, основанную на национализации собственности, достигнутую путем свержения российской буржуазии и экспроприации капиталистической собственности. Нельзя было отказаться от этого фундаментального завоевания Октябрьской революции, от этой важнейшей экономической основы последующего экономического и культурного развития Советского Союза.
Позиция меньшинства исходила из того, что от Октябрьской революции не осталось ничего, что стоило бы спасать. Поэтому не было никаких оснований сохранять в программе Четвертого Интернационала оборону Советского Союза.
Троцкий затронул еще один критический вопрос. Если бюрократия представляет собой новый класс, создавший в СССР новую форму эксплуататорского общества, то каковы же новые формы отношений собственности, которые могли бы однозначно отождествляться с этим новым классом? Какого нового этапа экономического развития, помимо капитализма и социализма, стал «бюрократический коллективизм» исторически правомерным и даже необходимым выражением? Четвертый Интернационал утверждал, что бюрократия узурпировала политическую власть, которую она использовала для приобретения привилегий, основанных на национализации собственности, достигнутой в результате рабочей революции 1917 года. Диктаторская власть, которой обладала бюрократия под руководством Сталина, была продуктом вырождения Советского государства в конкретных политических условиях. Эти условия, главным образом, сводились к исторической отсталости российской капиталистической экономики до 1917 года, унаследованной большевиками, а также к длительной политической изоляции Советского Союза вследствие поражения революционных движений в Европе и Азии после завоевания большевиками власти в России.
Если бы эти условия сохранялись в течение длительного времени, — то есть если бы изоляция Советского Союза сохранялась вследствие поражений рабочего класса и выживания капитализма в крупных центрах империализма, — то рабочее государство прекратило бы свое существование. Но результатом этого процесса, настаивал Троцкий, должна была бы стать ликвидация национализированной собственности и восстановление капиталистических отношений собственности. Такой исход означал бы превращение могущественного слоя бюрократии, эксплуатирующего свою политическую власть для расхищения государственных активов, в заново оформившийся класс капиталистов. Троцкий предупреждал, что такой исход является реальной возможностью, которую можно предотвратить только путем политической революции — в сочетании с социалистической революцией в передовых капиталистических странах.
Такое тщательное изучение аргументации по поводу соответствующего терминологического определения Советского Союза позволило Троцкому выявить далеко идущие исторические и политические последствия изменений в программе, выдвинутых оппозицией в СРП:
«Продуманная до конца историческая альтернатива такова: либо сталинский режим есть отвратительный рецидив в процессе превращения буржуазного общества в социалистическое, либо сталинский режим есть первый этап нового эксплуататорского общества. Если верен окажется второй прогноз, то, разумеется, бюрократия станет новым эксплуататорским классом. Как ни тяжела эта вторая перспектива, но, если бы мировой пролетариат действительно оказался неспособен выполнить миссию, которую возлагает на него ход развития, не оставалось бы ничего другого, как открыто признать, что социалистическая программа, построенная на внутренних противоречиях капиталистического общества, оказалось утопией. Понадобилась бы, очевидно, новая “минимальная” программа — для защиты интересов рабов тоталитарного бюрократического общества.
Есть ли, однако, такие незыблемые или хотя бы убедительные объективные данные, которые вынуждали бы нас сегодня отказаться от перспективы социалистической революции? В этом весь вопрос» [10].
Поэтому на карту была поставлена историческая легитимность всего социалистического проекта. Был ли союз Сталина с Гитлером в сочетании с началом Второй мировой войны неопровержимым доказательством того, что рабочий класс неспособен выполнить историческую задачу, поставленную перед ним согласно марксистской теории? Таким образом, весь спор с Бёрнхемом и Шахтманом — да и вообще со всеми многочисленными слоями деморализованной мелкобуржуазной интеллигенции, от имени которой они выступали, — сводился к тому, является ли рабочий класс революционным классом, как это было установлено Марксом и Энгельсом в ходе развития и разработки ими материалистической концепции истории. Ответ Троцкого на этот исторический вопрос, господствовавший в политической и интеллектуальной жизни на протяжении последних восьмидесяти лет, почти сам по себе достаточен для того, чтобы подтвердить его статус самого глубокого и дальновидного политического мыслителя XX века, равного только Ленину. Поэтому уместно процитировать этот отрывок полностью:
«Кризис капиталистического общества, принявший в июле 1914 года открытый характер, с первого же дня войны вызвал острый кризис пролетарского руководства. За двадцать пять лет, протекших с того времени, пролетариат передовых капиталистических стран не создал еще руководства, которое бы стояло на уровне задач нашей эпохи. Опыт России свидетельствует, однако, что такое руководство может быть создано (это не значит, конечно, что оно будет застраховано от вырождения). Вопрос стоит, следовательно, так: проложит ли в конце концов объективная историческая необходимость себе дорогу в сознание авангарда рабочего класса, т.е.: сложится ли в процессе этой войны и тех глубочайших потрясений, которые из нее должны вырасти, подлинное революционное руководство, способное повести пролетариат на завоевание власти?
Четвертый Интернационал ответил на этот вопрос утвердительно не только текстом своей программы, но и самым фактом своего существования. Наоборот, всякого рода разочарованные и запуганные представители лжемарксизма исходят из того, что банкротство руководства лишь “отражает” неспособность пролетариата выполнить свою революционную миссию. Не все наши противники ясно выражают эту мысль. Но все они — ультралевые, центристы, анархисты, не говоря уже о сталинцах и социал-демократах — ответственность за поражения перелагают с себя на пролетариат. Никто из них не указывает, при каких именно условиях пролетариат окажется способен совершить социалистический переворот.
Если принять, что причиной поражений являются социальные качества самого пролетариата, тогда положение современного общества придется признать безнадежным. В условиях загнивающего капитализма пролетариат не растет ни численно, ни культурно. Нет, поэтому, основания ждать, что он когда-либо поднимется на уровень революционной задачи. Совершенно иначе представляется дело тому, кто уяснил себе глубочайший антагонизм между органическим, глубоким, непреодолимым стремлением трудящихся масс вырваться из кровавого капиталистического хаоса и консервативным, патриотическим, насквозь буржуазным характером пережившего себя руководства. Между этими двумя непримиримыми концепциями надо выбирать» [11].
Ни Шахтман, ни Бёрнхем не пытались разобраться в последствиях своих взглядов. Они даже не были способны предсказать свою собственную правую и проимпериалистическую политическую траекторию, не говоря уже о том, чтобы предвидеть ход мировой истории. Их политическое мышление руководствовалось самым вульгарным прагматизмом, который состоял в том, чтобы импровизировать политические реакции на основе повседневных впечатлений о «реальности живых событий», не пытаясь поместить события, на которые они реагировали, в сущностный всемирно-исторический контекст. Троцкий обратил внимание на их политическую эклектику.
«Оппозиционные лидеры отрывают социологию от диалектического материализма. Они отрывают политику от социологии. В области политики они отрывают наши задачи в Польше от нашего опыта в Испании; наши задачи по отношению к Финляндии — от нашей позиции по отношению к Польше. История превращается в ряд исключительных случаев, политика — в ряд импровизаций. Мы имеем в полном смысле распад марксизма, распад теоретического мышления, распад политики на основные элементы. Эмпиризм и его молочный брат, импрессионизм, господствуют по всей линии» [12].
В ходе этой полемики Троцкий, несомненно, застигнув врасплох Бёрнхема и Шахтмана, внес в дискуссию вопрос о диалектической логике. Троцкий, конечно, отдавал себе отчет в том, что Бёрнхем отвергает диалектику как бессмысленную и презирает Гегеля, которого напыщенный профессор по глупости назвал «мертвым уже столетие архипутаником человеческой мысли» [13]. Что касается Макса Шахтмана, то тот не проявлял особого интереса к вопросам философии и объявил себя агностиком по вопросу о связи между диалектическим материализмом и революционной политикой. Поэтому в «философском повороте» Троцкого не было ничего надуманного или капризного.
Развитие научной перспективы, необходимой для политической ориентации рабочего класса, требовало такого уровня анализа сложной, противоречивой и потому быстро меняющейся социально-экономической и политической ситуации, который нельзя было достигнуть на основе формальной логики, разбавленной прагматическим импрессионизмом. Отсутствие научного метода, несмотря на все претензии Бёрнхема выступать в качестве эксперта по философии, нашло свое грубое выражение в том, что анализ Бёрнхемом советского общества и политики был лишен исторического содержания и основывался преимущественно на импрессионистских описаниях явлений, видимых на поверхности общества. Прагматический подход Бёрнхема к сложным социально-экономическим и политическим процессам был теоретически никчемен. Он противопоставлял существующий Советский Союз такому, каким, по его мнению, должно быть идеальное рабочее государство. Он не стремился объяснить исторический процесс и конфликт социальных и политических сил в национальном и международном масштабе, что лежало в основе перерождения СССР.
За это он был соответствующим образом наказан Троцким:
«Вульгарное мышление оперирует такими понятиями, как капитализм, мораль, свобода, рабочее государство, и пр. и т.д., как неподвижными абстракциями, считая, что капитализм равняется капитализму, мораль равняется морали и пр. Диалектическое мышление рассматривает все вещи и явления в их постоянном изменении, причем в материальных условиях этих изменений оно открывает тот критический предел, за которым А перестает быть А, рабочее государство перестает быть рабочим государством.
Основной порок вульгарного мышления в том, что оно хочет удовлетвориться неподвижными отпечатками действительности, которая есть вечное движение. Диалектическое мышление придает самим понятиям — при помощи дальнейших уточнений, поправок, конкретизации — ту содержательность и гибкость, я почти готов сказать, сочность, которая до некоторой степени приближает их к живым явлениям. Не капитализм вообще, а данный капитализм, на определенной стадии развития. Не рабочее государство вообще, а данное рабочее государство, в отсталой стране, в империалистском окружении, и пр.
Диалектическое мышление относится к вульгарному, как лента кинематографа относится к неподвижной фотографии. Кинематограф не отбрасывает простой фотографии, а комбинирует серию фотографий по законам движения. Диалектика не отвергает силлогизма, но учит комбинировать силлогизмы так, чтобы приближать наше познание к вечно изменяющейся действительности. Гегель устанавливает в своей логике ряд законов: превращение количества в качество, развитие через противоречия, конфликты содержания и формы, перерыв постепенности, превращение возможности в необходимость и пр., которые так же важны для теоретического мышления, как простой силлогизм, для более элементарных задач» [14].
Троцкий принадлежал к той редкой категории действительно великих авторов, которые искали и умели выразить наиболее глубокие идеи доступным языком. Но он не стремился достичь ясности за счет интеллектуальной глубины. Скорее, его ясность — это проявление его мастерства в принципиальных теоретических вопросах.
Следует также отметить, что в этом отрывке обнаруживается поразительное совпадение концепции диалектической логики у Троцкого и Ленина. В своем Конспекте книги Гегеля «Наука логики» (который включает часть ленинских тетрадей по философии, опубликованных в 29-м томе собрания сочинений вождя большевиков) Ленин, комментируя Гегеля, писал:
«Логика есть учение о познании. Есть теория познания. Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = „логическая идея“) и охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы. Тут действительно, объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека, = мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории etc. Человек не может охватить = отразить = отобразить природы всей, полностью, ее „непосредственной цельности“, он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т.д. и т.п.» [15].
В апреле 1940 года меньшинство порвало с СРП и создало свою «Рабочую партию». Бёрнхем оставался в ее рядах чуть больше месяца. 21 мая он написал заявление о выходе из организации, которую основал вместе с Шахтманом, и в письме объявил о своем полном и абсолютном отказе от социализма. Делая окончательные выводы из своего неприятия диалектического материализма, Бёрнхем писал: «Я не принимаю ни один из всех важнейших постулатов, связанных с марксистским движением в его реформистском, ленинистском, сталинистском или троцкистском вариантах» [16]. Узнав о дезертирстве теоретика оппозиции, Троцкий написал своему адвокату (и члену СРП) Альберту Голдману: «Бёрнхем не признает диалектики, но диалектика не выпускает его из своих рук. Он пойман, как муха в паутине» [17].
После своего выхода из Рабочей партии Бёрнхем быстро передвинулся на крайне правое крыло буржуазной политики, стал сторонником превентивной ядерной войны против Советского Союза и незадолго до своей смерти в 1987 году был награжден «Медалью Свободы» президентом Рональдом Рейганом. Эволюция Шахтмана развивалась несколько дольше. Его партия выдвинула концепцию «третьего лагеря» и лозунг «Ни Вашингтон, ни Москва». В конце концов, Шахтман отодвинулся от Москвы в сторону Вашингтона и стал сторонником «холодной войны», которую вели Соединенные Штаты. В конечном итоге, он поддержал военную операцию США против Кубы в 1961 году [«высадка в заливе Свиней»], а позже — бомбардировки Северного Вьетнама.
Продолжение следует.
[1] “Trotsky’s place in History,” in C. L. R. James and Revolutionary Marxism: Selected Writings of C.L.R. James 1939-49, ed. Scott McLemee and Paul Le Blanc (Chicago, 2018), p. 93.
[2] Контрпроцесс Троцкого: Стенограмма слушаний по обвинениям, выдвинутым на московских процессах 1930-х гг. Москва, 2017, с. 318.
[3] Троцкий Л., «СССР в войне». См.: http://iskra-research.org/FI/BO/BO-79.shtml
[4] Троцкий Л., «Накануне Второй мировой войны». См.: http://iskra-research.org/Trotsky/sochineniia/1939/19390723.html
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же.
[9] Троцкий Л., «СССР в войне». См.: http://iskra-research.org/FI/BO/BO-79.shtml.
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Троцкий Л., «Открытое письмо тов. Бернаму». См.: http://iskra-research.org/Trotsky/sochineniia/1940/19400107.html.
[13] Бёрнхем Д., «Наука и стиль». См.: http://iskra-research.org/Trotsky/marksizm/Burnham-19400201.html.
[14] Троцкий Л., «Мелкобуржуазная оппозиция в Рабочей Социалистической Партии Соединенных Штатов». См.: http://iskra-research.org/FI/BO/BO-82.shtml.
[15] Ленин В., ПСС, 5-е изд-е, т. 29, стр. 163–164.
[16] http://iskra-research.org/Trotsky/marksizm/Burnham-19400521.html.
[17] Троцкий Л., В защиту марксизма. Iskra Research, Cambridge, 1994, с. 215.